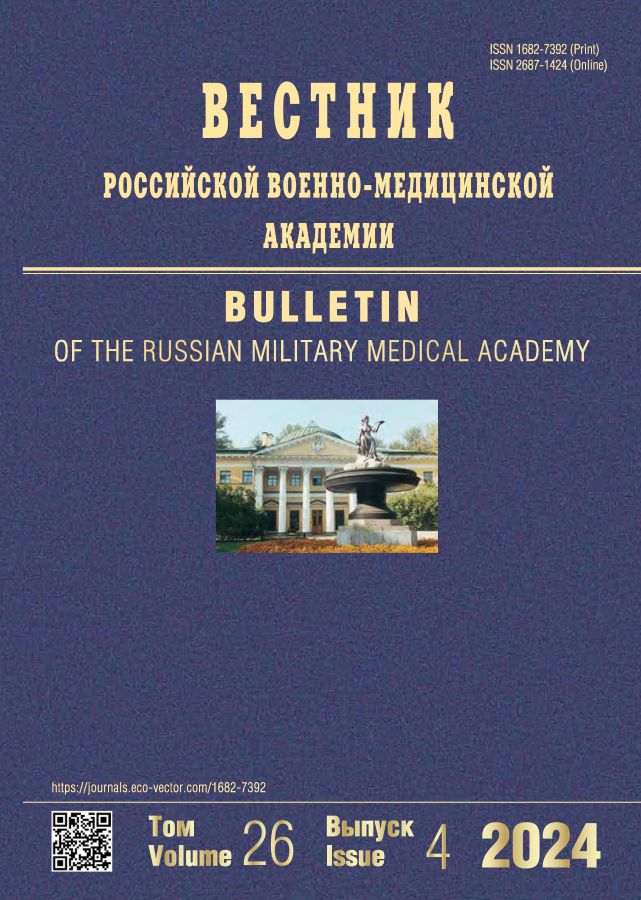Современные возможности дифференциальной диагностики различных типов анемий у больных, страдающих заболеванием, вызванным вирусом иммунодефицита человека
- Авторы: Сахин В.Т.1, Крюков Е.В.2, Казаков С.П.3,4, Сотников А.В.2, Гордиенко А.В.2, Гуляев Н.И.1,5,6, Рукавицын О.А.3
-
Учреждения:
- Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий — Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского
- Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
- Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко
- Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства
- Филиал Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- Выпуск: Том 26, № 4 (2024)
- Страницы: 513-522
- Раздел: Оригинальное исследование
- Статья получена: 14.06.2024
- Статья одобрена: 06.10.2024
- Статья опубликована: 22.12.2024
- URL: https://journals.eco-vector.com/1682-7392/article/view/633445
- DOI: https://doi.org/10.17816/brmma633445
- ID: 633445
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Обосновывается разработка диагностического алгоритма, позволяющего проводить дифференциальную диагностику анемии хронических заболеваний и железодефицитной анемии у больных, страдающих заболеванием, вызванным вирусом иммунодефицита человека. В описательное исследование одномоментного среза включены 125 больных, страдающих заболеванием, вызванным вирусом иммунодефицита человека, из них 101 с диагностированным анемическим синдромом и 24 без него (контрольная группа). Пациенты, страдающие анемией, разделены на три группы: 1-я группа — анемия хронических заболеваний, 2-я группа — сочетание анемии хронических заболеваний и железодефицитной анемии, 3-я группа — железодефицитная анемия. У всех пациентов при поступлении определяли количество эритроцитов, концентрации гемоглобина, интерлейкина 6, 10, 1β, интерферона-гамма, фактора некроза опухоли альфа, ферритина, С-реактивного белка, трансферрина, гепцидина и растворимого рецептора трансферрина. Расчет математической модели для дифференциальной диагностики анемии хронических заболеваний и железодефицитной анемии проводили с помощью дискриминантного анализа с последующим получением канонической линейной дискриминантной функции. Также c помощью канонического анализа получены координаты центроидов: для анемии хронических заболеваний это 2,86 усл. ед., а для железодефицитной анемии — 2,54 усл. ед. Пациента с рассчитанной канонической линейной дискриминантной функцией следует отнести к группе анемии хронических заболеваний или железодефицитной анемии по минимальному расстоянию к соответствующему центроиду. Полученная математическая модель обладает 88,8 % чувствительностью и 100 % специфичностью. В качестве самостоятельных лабораторных маркеров, позволяющих проводить дифференциальную диагностику анемии хронических заболеваний и железодефицитной анемии, предлагается также использование концентрации интерлейкина 6 и ферритина. Полученная по результатам расчетов каноническая линейная дискриминантная функция, а также уровни интерлейкина 6 и ферритина крови обладают высокой диагностической значимостью для верификации анемии хронических заболеваний и железодефицитной анемии у больных, страдающих заболеванием, вызванным вирусом иммунодефицита человека. Их использование позволяет уже на этапе первичного контакта врача с больным определить тип сформировавшейся анемии.
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), по-прежнему остается основной причиной инфекционной летальности и одной из важных проблем для системы здравоохранения. Синдром приобретенного иммунодефицита как терминальная стадия заболевания, вызванного ВИЧ, с 1992 г. был основной причиной смерти людей в Соединенных Штатах Америки (США) в возрасте от 25 до 44 лет [1]. По данным Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 1, до 39 млн человек во всем мире страдают ВИЧ-инфекцией. Инфекция сопровождается медленным, но прогрессирующим поражением иммунной системы с развитием дистрофических и аутоиммунных процессов, приводящих к осложнениям со стороны различных органов и систем. Течение заболевания даже на фоне проводимой этиотропной терапии часто осложняется развитием анемического синдрома различной природы [2–4]. Анемия ассоциируется с увеличением частоты тяжелых форм заболевания, а также неблагоприятных клинических исходов [3, 5]. У ВИЧ-инфицированных пациентов возможно развитие разных типов анемий, отличающихся по патогенезу и тактике лечения [6]. На первом месте по частоте развития находится анемия хронических заболеваний (АХЗ), развивающаяся у 60 % больных. На втором месте по распространенности находится железодефицитная анемия (ЖДА), регистрирующаяся в зависимости от популяции и наличия сопутствующих заболеваний у 20–40 % пациентов [3, 6, 7]. Несмотря на выявляемый при обоих типах анемии дефицит железа, причины его формирования различны, что определяет разные подходы к его коррекции [6, 8–10]. Последнее диктует необходимость точной диагностики причины развития анемического синдрома у конкретного больного. В связи с этим увеличивается число работ, в которых исследуется возможность применения различных маркеров или диагностических алгоритмов для дифференциальной диагностики АХЗ и ЖДА у ВИЧ-инфицированных больных. Часть этих исследований посвящена возможности применения воспалительных маркеров, таких как С-реактивный белок (СРБ), ферритин, интерлейкин 6 (ИЛ-6), а также других, менее распространенных в повседневной клинической практике показателей клинического, биохимического и иммунологического анализов крови [7, 11, 12]. На сегодняшний день не найдено оптимального показателя для эффективной диагностики разных типов анемий у ВИЧ-инфицированных пациентов [13, 14]. Все перечисленные выше факты определяют высокую актуальность настоящего исследования.
Цель исследования — разработать диагностический алгоритм, позволяющий проводить дифференциальную диагностику АХЗ и ЖДА у пациентов, страдающих ВИЧ-инфекцией, для своевременного подбора оптимальной терапии.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено двуцентровое исследование одномоментного среза 125 пациентов, в возрасте от 18 до 54 лет, страдающих ВИЧ-инфекцией, подтвержденной лабораторно (иммуноферментный анализ и иммунный блоттинг), из которых 101 с диагностированным анемическим синдромом и 24 без него (имели нормальные показатели красной крови). В качестве критериев исключения из исследования использованы: большие оперативные вмешательства в предшествующий месяц; лабораторные и/или клинические признаки большого или малого кровотечения; прием препаратов железа и/или витаминов С, D, В12, а также антиретровирусных препаратов, влияющих на эритропоэз (зидовудин), в предшествующий месяц; наличие злокачественного новообразования или ревматического заболевания; туберкулез (легочный или внелегочный), вирусные гепатиты В и С, другие активные инфекционные заболевания.
Исследования проводились с 2017 по 2021 г. в Инфекционном центре 1586-го военного клинического госпиталя (г. Подольск Московской области) и Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (г. Санкт-Петербург). Всем больным при поступлении в стационар в утренние часы натощак выполняли забор крови из кубитальной вены для клинического (определение показателей красной крови), биохимического (определение ферритина, СРБ, трансферрина, коэффициента насыщения трансферрина железом (КНТ), а также растворимого рецептора трансферрина (soluble transferrin receptor — sTfR) и гепцидина) и иммунологического (определение цитокинов) анализов крови.
Концентрацию гемоглобина определяли на анализаторе «XS-500i» фирмы «Sysmex» (Япония), ферритина и СРБ — на анализаторе «Olympus Au 480» фирмы «Beckman Coulter» (США), трансферрина — на анализаторе «Siemens Admia 1200» фирмы «Diamond Diagnostics» (США), sTfR — на анализаторе «Access» фирмы «BeckmanCoulter» (США), гепцидина — на анализаторе «Charity» производства «Пробанаучприбор» (Россия). Концентрации ИЛ-6, –10 и –1β, интерферона-гамма (ИФН-γ) и фактора некроза опухоли альфа (ФНО-α) определяли иммуноферментным методом с помощью апппарата «Stat Fax 2100» фирмы «Awareness Technology Inc.» (США).
После определения концентраций ферритина и СРБ, уровня КНТ и уточнения типа анемии в соответствии с критериями S. Van Santen and M. Worwood [15, 16] все пациенты, страдающие анемическим синдромом, были разделены на 3 группы: 1-я группа — АХЗ (КНТ — 16,9 [10, 2–23, 1] %, ферритин — 638,7 [326–861] нг/мл, СРБ — 54,5 [4, 8–103, 3] мг/л), 2-я группа — сочетание АХЗ и ЖДА (КНТ — 13,2 [9, 8–14] %, ферритин — 156,2 [123–235] нг/мл, СРБ — 5,9 [0, 5–8, 2] мг/л), 3-я группа — ЖДА (КНТ — 11,1 [4, 7–13, 7] %, ферритин — 29 [4, 2–38, 9] нг/мл, СРБ — 2,9 [0, 4–1, 6] мг/л).
В 1-ю группу включены 36 пациентов (19 мужчин и 17 женщин, средний возраст 41,7 [29, 9–53, 5] года). У 3 пациентов установлена 2Б стадия ВИЧ-инфекции, у 21 — 4А стадия, у 12 — 4В стадия заболевания. В этой группе только 21 пациенту проводили антиретровирусную терапию (АРВТ), 12 АРВТ не проводили и еще 3 пациентам диагноз ВИЧ-инфекции установлен впервые. Число CD4+-клеток в группе составило 37,2 [6–61] клеток в 1 мкл крови (кл/мкл).
Во 2-ю группу включены 30 пациентов (18 мужчин и 12 женщин, средний возраст 41,2 [31, 2–51, 2] лет). У 3 пациентов диагностирована 3 стадия заболевания, у 21 — 4А стадия, у 6 — 4Б стадия ВИЧ-инфекции. АРВТ проведена 18 пациентам, 12 ее не получили. Среднее число CD4+-клеток в группе составило 295,8 [51–491] кл/мкл.
В 3-ю группу включены 35 пациентов (18 мужчин и 17 женщин, средний возраст 35,4 [28, 3–42, 5] лет). У 9 пациентов диагностирована 3 стадия ВИЧ-инфекции, у 21 — 4А стадия, у 5 — 4Б стадия заболевания. АРВТ проведена 17 пациентам, 13 ее не получили. Среднее число CD4+-клеток в этой группе пациентов составило 406,5 [176–542] кл/мкл.
В контрольную группу (КГ) включены 24 пациента (14 мужчин и 10 женщин, средний возраст 37,6 [30, 2–44, 9] года). По 3 человека в группе имели 2Б и 4А стадию заболевания и 18 человек — 3 стадию ВИЧ-инфекции. Среднее число CD4+-клеток в этой группе больных составило 608 [369–836] кл/мкл. Диагноз ВИЧ-инфекции и определение стадии заболевания устанавливали в соответствии с клиническими рекомендациями Минздрава России 2.
С целью создания математической модели, обладающей высокой диагностической значимостью для дифференциальной диагностики АХЗ и ЖДА, использовали дискриминантный анализ, который проводили в 2 этапа. На 1-м этапе отбирали наиболее информативные для модели переменные. На 2-м — рассчитывали каноническую линейную дискриминантную функцию (КЛДФ), позволяющую с высокой чувствительностью и специфичностью проводить дифференциальную диагностику АХЗ и ЖДА. Дополнительно для КЛДФ рассчитывали F-критерий Фишера, р-критерий и коэффициенты канонической корреляции R (центроиды). Диагностическую значимость итоговой КЛДФ и других показателей определяли методом так называемой рабочей характеристики приемника (receiver operating characteristic — ROC-анализа) с расчетом площади под кривой (area under curve — AUC). У показателей с высоким значением AUC после проведения ROC-анализа рассчитывали точки отсечения (cut-off) для определения границ их значений, позволяющих диагностировать у пациента АХЗ или ЖДА.
Статистическую обработку результатов исследования выполняли в программах SPSS 21 и StatSoft Statistica 10 [17]. Все определяемые показатели представлены в виде медианы (Me) и межквартильного интервала [LQ–UQ], полученных методами описательной статистики. Различия между группами определяли непараметрическим методом Краскела – Уоллиса при значении р < 0,05.
Исследование одобрено комитетом по этике Главного военного клинического госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко (протокол № 225 от 26.02.2020).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Концентрация гемоглобина в группах больных, страдающих анемическим синдромом, оказалась меньшей, чем в КГ. При этом в 1-й группе количество эритроцитов было значимо ниже, чем у пациентов 2-й и 3-й групп. Концентрация ферритина и СРБ в 1-й группе, наоборот, была выше, чем в остальных группах. Вместе с тем в 3-й группе больных она оказалась значимо ниже, чем в остальных (p < 0,05). В то же время между 2-й и КГ различий в концентрациях этих показателей не получено. Во всех группах концентрация трансферрина была достоверно (p < 0,05) меньше, чем в КГ. В сравнении с данными 2-й и 3-й групп пациентов самая низкая концентрация трансферрина оказалась в 1-й группе (p < 0,05). Во 2-й и 3-й группах уровни трансферрина были сопоставимы. У пациентов 1-й группы концентрация гепцидина оказалась сопоставимой с КГ. Наиболее низкая секреция гепцидина зарегистрирована в 3-й группе, а во 2-й группе она была меньшей, чем в 1-й, и большей, чем в 3-й группе больных (p < 0,05). Концентрация sTfR в 3-й группе пациентов была максимальной. При этом между 1-й, 2-й и КГ различий в концентрациях sTfR не обнаружено (табл. 1).
Таблица 1. Показатели клинического, биохимического и иммунологического анализов крови у больных всех групп, M [LQ–UQ]
Table 1. Clinical, biochemical, and immunological blood test results in patients of all groups, M [LQ–UQ]
Показатель | Группа | p | |||
1-я | 2-я | 3-я | КГ | ||
Эритроциты, 1012/л | 3,3 | 3,7 | 3,8 | 5 | 1 = 0,000002 2 = 0,000002 3 = 0,000007 |
Гемоглобин, г/л | 103,8 [91–117] | 105,6 [103–113] | 102 [98–110] | 151,3 [138–160] | 1 = 0,000002 2 = 0,000003 3 = 0,000002 |
Ферритин, мкг/л | 638,7 [326–861] | 156,2 [123–235] | 29 | 134,2 | 1 = 0,0005 2 > 0,05 3 = 0,0003 |
Трансферрин, г/л | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 2,6 | 1 = 0,00002 2 = 0,007 3 = 0,0001 |
СРБ, мг/л | 54,5 | 2,9 | 4,2 | 1 = 0,0001 2 > 0,05 3 = 0,01 | |
Гепцидин, нг/мл | 22,2 | 25,1 | 11,4 | 24,3 | 1 = 0,003 2 > 0,05 3 = 0,006 |
sTfR, нмоль/л | 2,4 | 3,5 | 5,34 | 3 | 1, 2 > 0,05 3 = 0,006 |
Примечание: 1, 2, 3 — различия показателей между группой сравнения и контрольной группой.
Note: 1, 2, 3 — differences in indicators between the comparison group and the control group.
В 1-й группе пациентов концентрация ИЛ-6 и ИЛ-10 превышала значения в других группах (p < 0,05). Менее выраженный уровень концентрации ИЛ-6, превышающий КГ, наблюдался во 2-й и 3-й группах больных. Во 2-й группе пациентов концентрация ИЛ-10 оказалась большей, чем в 3-й и КГ, где получены сопоставимые по значениям уровни этого цитокина. Концентрация ИЛ-1β, ФНО-α, ИНФ-γ в 1-й и 2-й группах пациентов оказалась сопоставимой и больше, чем в 3-й и КГ (p < 0,05). В 3-й и КГ пациентов зарегистрированы сопоставимые концентрации этих цитокинов (табл. 2).
Таблица 2. Концентрации цитокинов у больных всех групп, M [LQ–UQ]
Table 2. Cytokine concentrations in patients of all groups, M [LQ–UQ]
Показатель | Группа | p | |||
1-я | 2-я | 3-я | КГ | ||
ФНО-α, пг/мл | 15,2 | 17,3 | 6,3 | 5,7 | 1 = 0,009 2 = 0,007 3 > 0,05 |
ИЛ-6, пг/мл | 36,6 | 9,1 | 6,2 | 1,8 | 1 = 0,00001 2 = 0,0001 3 = 0,01 |
ИЛ-1β, пг/мл | 16,7 | 19,2 | 1 = 0,0003 2 = 0,0002 3 > 0,05 | ||
ИЛ-10, пг/мл | 21,6 | 15,5 | 8,6 | 7,8 | 1 = 0,003 2 = 0,01 3 > 0,05 |
ИФН-γ, пг/мл | 62,6 | 58,3 | 6,7 | 1 = 0,0002 2 = 0,0002 3 > 0,05 | |
Примечание: 1, 2, 3 — различия показателей между группой сравнения и контрольной группой.
Note: 1, 2, 3 — differences between the study and control groups.
Выявлено, что наиболее информативными переменными при создании математической модели, обладающей высокой диагностической значимостью для дифференциальной диагностики АХЗ и ЖДА, стали концентрации ферритина, ФНО-α, ИЛ-6, СРБ и количество эритроцитов. Характеристики математической модели: λ-Уилкса — 0,1 и критерий F = 18,25 (p < 0,0001) свидетельствуют о ее статистической значимости. Ее информационная способность (общая доля верно классифицированных исходов) составила 94,1 %. По результатам дискриминации рассчитаны значения λ-Уилкса для всей модели, частные λ-Уилкса, характеризующие единичный вклад каждой переменной в разделительную силу модели, критерии Фишера с соответствующими уровнями значимости и коэффициент детерминации R2 (табл. 3).
Таблица 3. Результаты дискриминантного анализа
Table 3. Discriminant analysis results
Показатель | λ-Уилкса | Частная-λ | F-критерий | R2 | р = |
Ферритин | 0,11 | 0,95 | 0,6 | 0,28 | 0,45 |
ФНО-α | 0,31 | 0,35 | 20,62 | 0,64 | 0,0008 |
ИЛ-6 | 0,31 | 0,35 | 20,81 | 0,88 | 0,0008 |
Эритроциты | 0,21 | 0,51 | 10,64 | 0,59 | 0,0076 |
СРБ | 0,21 | 0,53 | 9,66 | 0,83 | 0,0099 |
Рассчитанное уравнение КЛДФ, позволяющее проводить дифференциальную диагностику АХЗ и ЖДА, с суммарным (кумулятивным) вкладом в дисперсию лабораторных показателей, равным 100 %, имеет вид:
КЛДФ = 8,3 – ферритин × 0,3 – ФНО-α × 1,4 – ИЛ-6 × × 2,5 + эритроциты × 1,2 + СРБ × 1,7.
С помощью канонического анализа получены координаты центроидов: для АХЗ это –2,86 усл. ед., а для ЖДА –2,54 усл. ед. Для проведения дифференциальной диагностики необходимо рассчитать расстояние от КЛДФ до центроидов. Пациента, у которого, по данным концентраций ферритина, ФНО-α, ИЛ-6, СРБ и количества эритроцитов, определено значение КЛДФ, следует отнести к группе АХЗ или ЖДА по минимальному расстоянию к соответствующему центроиду. Например, если по результатам расчетов значение КЛДФ равно –1,5 усл. ед., то у пациента диагностируется АХЗ, так как –1,5 усл. ед. ближе к –2,86 усл. ед., чем к 2,54 усл. ед. Напротив, если полученное значение КЛДФ равно 2,1 усл. ед., то у пациента диагностируется ЖДА, так как 2,1 усл. ед. ближе к 2,54 усл. ед., чем к –2,86 усл. ед.
Для итоговой КЛДФ AUC составила 0,917 усл. ед., чувствительность — 88,8 %, специфичность — 100 %, что доказывает целесообразность ее применения на этапе первичного контакта врача с ВИЧ-инфицированным больным с целью определения типа анемии (табл. 4).
Таблица 4. Результаты ROC-анализа для итоговой КЛДФ, показателей обмена железа, СРБ, цитокинов и количества эритроцитов
Table 4. ROC analysis results for the final canonical linear discriminant function, iron metabolism parameters, CRP, cytokines, and red blood cell countt
Показатель | AUC, усл. ед. | Стандартная ошибка | Асимптоматическое значение | Чувствительность, % | Специфичность, % | 95 % ДИ | |
нижняя граница | верхняя граница | ||||||
Итоговая КЛДФ | 0,917 | 0,074 | 0,004 | 88,8 | 100 | 0,772 | 1,000 |
Ферритин | 0,83 | 0,081 | 0,02 | 87,1 | 92,1 | 0,687 | 1,000 |
Трансферрин | 0,665 | 0,145 | 0,32 | 68,5 | 70,3 | 0,34 | 0,92 |
Гепцидин | 0,563 | 0,147 | 0,665 | 76,4 | 52,3 | 0,274 | 0,851 |
Железо | 0,557 | 0,145 | 0,68 | 64,5 | 62,1 | 0,272 | 0,842 |
sTfR | 0,653 | 0,136 | 0,290 | 66,6 | 62,5 | 0,290 | 0,919 |
СРБ | 0,795 | 0,123 | 0,032 | 86 | 91 | 0,554 | 1,000 |
ИЛ-6 | 0,818 | 0,101 | 0,021 | 87,1 | 87,5 | 0,621 | 1,000 |
ФНО-α | 0,716 | 0,121 | 0,117 | 71,2 | 74,9 | 0,478 | 0,953 |
ИНФ-γ | 0,705 | 0,121 | 0,137 | 70,2 | 72,3 | 0,467 | 0,942 |
ИЛ-10 | 0,702 | 0,12 | 0,139 | 70 | 71,4 | 0,463 | 0,942 |
ИЛ-1β | 0,613 | 0,14 | 0,424 | 60 | 66,6 | 0,338 | 0,887 |
Эритроциты | 0,727 | 0,117 | 0,099 | 66,6 | 80 | 0,497 | 0,957 |
Примечание: ДИ — доверительный интервал.
Note: CI — confidence interval.
По результатам исследования, доказано важное самостоятельное значение концентрации ферритина и ИЛ-6 крови для дифференциальной диагностики АХЗ и ЖДА у ВИЧ-инфицированных пациентов. Информационная способность ферритина и ИЛ-6 оказалась немного меньше, чем у рассчитанной КЛДФ, но достаточной, чтобы применять их по отдельности с той же целью, что и КЛДФ (см. табл. 4). Определение значений этих показателей, которые необходимо использовать для диагностики АХЗ или ЖДА, следует выполнять после проведения ROC-анализа и расчета точки отсечения, в которой ферритин и ИЛ-6 обладают наибольшими значениями чувствительности и специфичности. По результатам расчета точки отсечения установлено, что концентрации ферритина более 300 мкг/л и/или ИЛ-6 более 11 пг/мл в крови свидетельствуют о развитии АХЗ, а концентрации ферритина менее 38 мкг/л и/или ИЛ-6 менее 7 пг/мл в крови указывают на развитие ЖДА у пациентов, страдающих ВИЧ-инфекцией.
Заметим, что в итоговое уравнение не вошли такие общепризнано важные регуляторы обмена железа, как гепцидин и sTfR. Исключение их из итоговой КЛДФ определяется результатами сравнительного и ROC-анализов. Низкая диагностическая значимость этих показателей для верификации типа анемии у пациентов, страдающих ВИЧ-инфекцией, ранее получена в ряде исследований [7, 8, 12, 18].
В то же время статистическими методами обосновано применение ИЛ-6 и ферритина для верификации АХЗ и ЖДА у ВИЧ-инфицированных. Доказана возможность применения ИЛ-6 и ферритина как в составе полученного уравнения, так и в качестве самостоятельных лабораторных маркеров. Возможность применения ИЛ-6 дополнительно обусловлена значимыми различиями его концентрации у пациентов 1-й и 3-й групп. Кроме того, в ранее выполненных исследованиях [6, 19] подтверждено важное значение этого провоспалительного цитокина в патогенезе АХЗ у ВИЧ-инфицированных, что полностью соотносится с результатами нашего исследования.
Высокая диагностическая значимость ферритина для дифференциальной диагностики АХЗ и ЖДА обусловлена несколькими факторами. Во-первых, ферритин имеет важное значение в патогенезе АХЗ, способствуя развитию функционального дефицита железа, что доказано в ранее выполненных исследованиях [6, 8]. Во-вторых, ферритин относится к воспалительным маркерам, и его высокая концентрация при развитии АХЗ отражает повышенный воспалительный профиль у этой категории больных [8].
Включение в уравнение ФНО-α и СРБ свидетельствует о значении этих параметров в воспалении и патогенезе АХЗ и низком значение в развитии ЖДА [6, 8]. Наконец, наличие в итоговом уравнении количества эритроцитов свидетельствует о более выраженном подавлении этитропоэза у пациентов 1-й группы в сравнении с больными 3-й группы. Нарушение эритропоэза у пациентов 1-й группы объясняется как влиянием провоспалительных цитокинов, так и фоновым подавлением секреции и сниженной биологической активностью эритропоэтина [6, 8, 9].
Ограничение исследования состоит в том, что оно проведено на когорте пациентов, страдающих ВИЧ-инфекцией, без тяжелой сопутствующей сердечно-сосудистой патологии (хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца) и хронической болезни почек, которые нередко наблюдаются у таких пациентов. Еще одним ограничением исследования является невключение таких регуляторов обмена железа, как эритроферрон, гемоювелин и клеточные рецепторы трансферрина. Исследование этих показателей в дальнейшем позволит установить более полную картину патогенеза АХЗ у пациентов, страдающих ВИЧ-инфекцией.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученная в ходе настоящего исследования математическая модель КЛДФ обладает большой диагностической значимостью, чувствительностью и специфичностью, что подтверждает целесообразность ее использования для уточнения типа анемии у ВИЧ-инфицированных пациентов уже при первичном контакте с врачом. Также установлена диагностическая значимость ферритина и ИЛ-6, рассчитаны пороговые значения этих показателей для верификации этих типов анемий. Полученное уравнение КЛДФ, а также определение концентрации ИЛ-6, ферритина позволяет определить тип анемии у ВИЧ-инфицированного пациента уже при первичном контакте с врачом.
В связи с доказанным влиянием АХЗ на прогноз заболевания и клинический исход у пациентов, страдающих ВИЧ-инфекцией, необходим дальнейший поиск маркеров и алгоритмов, позволяющих диагностировать эту анемию и проводить дифференциальную диагностику с ЖДА.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вклад авторов. Все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией.
Вклад каждого автора. В.Т. Сахин — разработка общей концепции, написание статьи, анализ данных; Е.В. Крюков — дизайн исследования, анализ данных; С.П. Казаков — сбор материала, обзор литературы; А.В. Сотников — сбор материала, обзор литературы; А.В. Гордиенко — написание статьи, анализ данных; Н.И. Гуляев — сбор материала, анализ данных; О.А. Рукавицын — написание статьи, анализ данных.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования.
ADDITIONAL INFORMATION
Authors’ contribution. Thereby, all authors made a substantial contribution to the conception of the study, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the article, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the study.
The contribution of each author. V.T. Sakhin — development of a general concept, writing an article, data analysis; E.V. Kryukov — research design, data analysis; S.P. Kazakov — collection of material, literature review; A.V. Sotnikov — collection of material, literature review; A.V. Gordienko — writing an article, data analysis; N.I. Gulyaev — collecting material, analyzing data; O.A. Rukavitsyn — writing an article, analyzing data.
Competing interests. The authors declare that they have no competing interests.
Funding source. This study was not supported by any external sources of funding.
1 Путь к победе над СПИДом: Доклад ЮНЭЙДС О Глобальной Эпидемии СПИДа 2023. Женева: Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу; 2023. Лицензия: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
2 Клинические рекомендации. ВИЧ-инфекция у взрослых. 2020. Утверждены Министерством здравоохранения Российской Федерации 16.02.2021. Режим доступа https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/79_1 Дата обращения 01.11.2024.
Об авторах
Валерий Тимофеевич Сахин
Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий — Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского
Автор, ответственный за переписку.
Email: vmeda-nio@mil.ru
ORCID iD: 0000-0001-5445-6028
SPIN-код: 4895-5411
канд. мед. наук
Россия, КрасногорскЕвгений Владимирович Крюков
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
Email: vmeda-nio@mil.ru
ORCID iD: 0000-0002-8396-1936
SPIN-код: 3900-3441
д-р мед. наук, профессор
Россия, Санкт-ПетербургСергей Петрович Казаков
Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко; Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства
Email: vmeda-nio@mil.ru
ORCID iD: 0000-0001-6528-1059
SPIN-код: 5560-3931
д-р мед. наук, профессор
Россия, Москва; МоскваАлексей Владимирович Сотников
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
Email: vmeda-nio@mil.ru
ORCID iD: 0000-0002-5913-9088
SPIN-код: 3295-8212
д-р мед. наук
Россия, Санкт-ПетербургАлександр Волеславович Гордиенко
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
Email: vmeda-nio@mil.ru
ORCID iD: 0000-0002-6901-6436
SPIN-код: 5049-3501
д-р мед. наук, профессор
Россия, Санкт-ПетербургНиколай Иванович Гуляев
Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий — Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского; Филиал Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова; Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
Email: vmeda-nio@mil.ru
ORCID iD: 0000-0002-7578-8715
SPIN-код: 2507-5073
д-р мед. наук, доцент
Россия, Красногорск; Москва; МоскваОлег Анатольевич Рукавицын
Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко
Email: vmeda-nio@mil.ru
ORCID iD: 0000-0002-1309-7265
д-р мед. наук, профессор
Россия, МоскваСписок литературы
- Москалев А.В., Гумилевский Б.Ю., Апчел В.Я., Цыган В.Н. Новый взгляд на иммунопатогенез инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека // Вестник Российской военно-медицинской академии. 2023. Т. 25, № 4. С. 665–680. EDN: RJUIDK doi: 10.17816/brmma567931
- Schalkwyk C., Mahy M., Johnson L.F., Imai-Eaton J.W. Updated data and methods for the 2023 UNAIDS HIV estimates // J Acquir Immune Defic Syndr. 2024. Vol. 95, N 1S. Р. 1–4. doi: 10.1097/QAI.0000000000003344
- Araujo-Pereira M., Schutz C., Barreto-Duarte B., et al. Interplay between systemic inflammation, anemia, and mycobacterial dissemination and its impact on mortality in TB-associated HIV: a prospective cohort study // Front Immunol. 2023. Vol. 14. Р. 1177432. doi: 10.3389/fimmu.2023.1177432
- Abioye A.I., Andersen C.T., Sudfeld C.R., Fawzi W.W. Anemia, iron status, and HIV: a systematic review of the evidence // Adv Nutr. 2020. Vol. 11, N 5. P. 1334–1363. doi: 10.1093/advances/nmaa037
- Huibers M.H.W., Bates I., McKew S., et al. Severe anaemia complicating HIV in Malawi: multiple co-existing aetiologies are associated with high mortality // PLoS One. 2020. Vol. 15, N 2. P. 0218695. doi: 10.1371/journal.pone.0218695
- Сахин В.Т. Крюков Е.В., Казаков С.П., и др. Сравнительный анализ секреции интерлейкина-6, интерлейкина-1β, интерлейкина-10, фактора некроза опухоли-альфа, интерферона-гамма при различных типах анемии у пациентов с ВИЧ-инфекцией // Медико-фармацевтический журнал «Пульс». 2023. Т. 25, № 2. С. 112–123. EDN: QJIVGW doi: 10.26787/nydha-2686-6838-2023-25-2-112-123
- Abioye A.I., Sudfeld C.R., Hughes M.D., et al. Iron status among HIV-infected adults during the first year of antiretroviral therapy in Tanzania // HIV Med. 2023. Vol. 24, N 4. P. 398–410. doi: 10.1111/hiv.13396
- Lanser L., Fuchs D., Kurz K., Weiss G. Physiology and inflammation driven pathophysiology of iron homeostasis–mechanistic insights into anemia of inflammation and its treatment // Nutrients. 2021. Vol. 13, N 11. P. 3732. doi: 10.3390/nu13113732
- Бессмельцев С.С., Романенко Н.А. Анемии при опухолевых заболеваниях системы крови: руководство для врачей. Москва: СИМК, 2017. 228 с. EDN: YMUIDH
- Стуклов Н.И., Козинец Г.И., Тюрина Н.Г. Учебник по гематологии. Москва: Практическая медицина, 2018. 336 с.
- Сахин В.Т., Крюков Е.В., Рукавицын О.А. Анемия хронических заболеваний / под ред. Е.В. Крюкова. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. 160 с.
- Huibers M.H., Calis JC, Allain T.J., et al. A possible role for hepcidin in the detection of iron deficiency in severely anaemic HIV-infected patients in Malawi // PLoS ONE. 2020. Vol. 15, N 2. P. e0218694. doi: 10.1371/journal.pone.0218694
- Wang C.Y., Xu Y., Traeger L., et al. Erythroferrone lowers hepcidin by sequestering BMP2/6 heterodimer from binding to the BMP type I receptor ALK3 // Blood. 2020. Vol. 135, N 6. P. 453–456. doi: 10.1182/blood.2019002620
- Han J., Wang K. Clinical significance of serum hepcidin in the diagnosis and treatment of patients with anemia of chronic disease: a meta-analysis // Biomarkers. 2021. Vol. 26. N 4. P. 296–301. doi: 0.1080/1354750X.2021.1893812
- Van Santen S., Van Dongen-Lases E.C., de Vegt F. Hepcidin and hemoglobin content parameters in the diagnosis of iron deficiency in rheumatoid arthritis patients with anemia // Arthritis Rheum. 2011. Vol. 63, N 12. P. 3672–3680. doi: 10.1002/art.30623
- Worwood M. Iron deficiency anemia and iron overload // Bain B.J., Lewis S.M., Bates I., Laffan M.A., eds. Dacie and lewis practical haematology. 11th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone, 2011. P. 175–200. doi: 10.1016/B978-0-7020-6696-2.00009-6
- Трухачева Н.В. Математическая статистика в медико-биологических исследованиях с применением пакета Statistica. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 384 с. EDN: THVXOF
- Richard C., Verdier F. Transferrin receptors in erythropoiesis // Int J Mol Sci. 2020. Vol. 21, N 24. P. 9713. doi: 10.3390/ijms21249713
- Kaudha R., Amanya R., Kakuru D., et al. Anemia in HIV patients attending highly active antiretroviral therapy clinic at Hoima regional referral hospital: prevalence, morphological classification, and associated factors // HIV AIDS (Auckl). 2023. Vol. 15. P. 621–632. doi: 10.2147/HIV.S425807
Дополнительные файлы