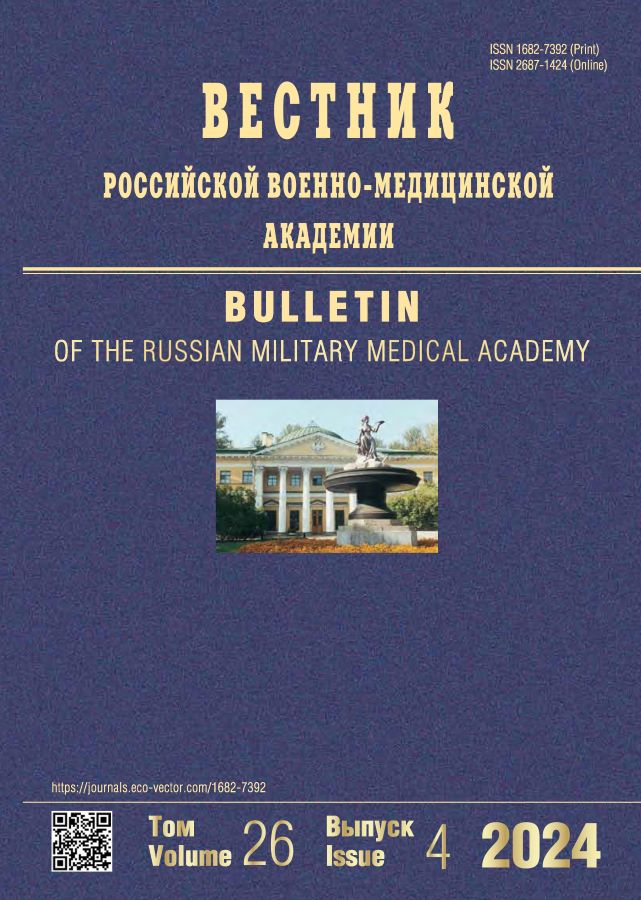周围神经战斗损伤的神经外科护理方案
- 作者: Gaivoronsky A.I.1, Svistov D.V.1, Kolomentsev S.V.1, Ovchinnikov D.V.1, Ivchenko E.V.1, Onnintsev I.E.2, Priymak M.A.1, Churikov L.I.1, Isaev D.M.1, Alexeev E.D.1, Isengaliev I.N.2, Petrenko E.A.1
-
隶属关系:
- Kirov Military Medical Academy
- Main Military Clinical Hospital named after academical N.N.Burdenko
- 期: 卷 26, 编号 4 (2024)
- 页面: 627-638
- 栏目: Clinical Practice Guidelines
- ##submission.dateSubmitted##: 20.07.2024
- ##submission.dateAccepted##: 01.10.2024
- ##submission.datePublished##: 21.12.2024
- URL: https://journals.eco-vector.com/1682-7392/article/view/634434
- DOI: https://doi.org/10.17816/brmma634434
- ID: 634434
如何引用文章
详细
在现代武装冲突中,上肢和下肢的枪伤和地雷爆炸伤占所有其他局部损伤的首位。在以往的武装冲突中,周围神经重建手术干预时间不早于3-6个月,损伤后,因为功能障碍通常与挫伤机制有关,并且有可能无需手术治疗恢复神经功能。为了遭受周围神经损伤的伤员,作者制定和推广一种新的护理方案。近年来,磁共振神经成像和周围神经超声检查等神经影像诊断技术在军事医学院得到了广泛应用。通过这些技术的应用,可以确认或者排除神经干的完全解剖学断裂。在存在特征性病理形态学变化的情况下,将对周围神经进行重建手术干预,现在这种手术在受伤后(1~1.5个月)尽早进行。越早对神经进行重建干预,其功能恢复就越快越完全。周围神经损伤伤员护理的新方案,要求神经外科医生和相关专家之间采取综合方法、密切互动。这样就有可能在接受外科手术的病人中发现周围神经系统病变的病例。这种方法在治疗此类伤员的神经性疼痛方面已显示出效果。及时进行重建干预,可以提高肢体丧失功能恢复的效率和速度,从而缩短康复周期,提高生活质量。
全文:
Введение
Травмы нервных стволов в мирное время встречаются с частотой 1:1000. В период боевых действий число огнестрельных и минно-взрывных ранений с повреждением периферической нервной системы значительно возрастает. Так, в период Второй мировой войны частота встречаемости рассматриваемых травм составляла от 4 до 13 %. В годы войны во Вьетнаме повреждения нервов отмечены у 22 % раненых американцев. В период войны в Афганистане (1979–1989) этот показатель достигал 13,2 % от всех травм. В локальных вооруженных конфликтах на Северном Кавказе частота повреждений нервов составляла 11–12 %. При проведении наземных операций в Афганистане и Ираке в американской армии этот показатель достигал 30 % [1–5].
В условиях вооруженных конфликтов огнестрельные ранения конечностей с повреждением нервов в половине случаев происходят одномоментно с переломами костей, в 10–25 % — с ранениями сосудов конечностей [6, 7]. По данным А.В. Гончарова [8], в 4 вооруженных конфликтах, в которых участвовала наша страна в период с 1979 по 2008 г., повреждения конечностей наблюдались примерно у 50 % раненых. При этом огнестрельные пулевые и осколочные ранения в качестве причины повреждения составляли 80–85 %.
По материалам статистических данных, в Великой Отечественной войне наиболее часто травмировался лучевой нерв (15,6 % от всех повреждений нервных стволов), затем седалищный (14,9 %), локтевой (10,7 %), малоберцовый (9,4 %), срединный (8,2 %) [9]. По данным Е.Д. Алексеева [1], в локальных вооруженных конфликтах конца XX — начала XXI в. частота повреждений различных нервов была следующей: седалищный нерв — 25,8 %, лучевой — 24,7 %, плечевое сплетение — 20,6 %, локтевой нерв — 15,5 %, срединный — 16,5 %, малоберцовый — 7,2 %, большеберцовый — 3,1 %, бедренный — 1 %.
Стандартной тактикой лечения пострадавших с клинической картиной невропатии в годы предыдущих военных конфликтов была выжидательная. Реконструктивные вмешательства на нервах выполнялись в сроки не ранее 3–6 мес. после травмы. Это обосновывалось тем, что нарушение функции нерва после ранения зачастую обусловлено контузионным механизмом повреждения и восстановление могло произойти без операции.
Цель исследования — на основе достижений диагностики и лечения повреждений периферических нервов последнего десятилетия разработать концепцию оказания помощи раненым с боевыми травмами нервов.
Материалы и методы
В исследование включены раненые с боевыми повреждениями периферических нервов, проходившие лечение в нейрохирургических и неврологических отделениях Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова и Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко. Более 99 % раненых — мужчины. Возраст пострадавших варьировал от 18 до 64 лет. Применялись следующие инструментальные методики исследования: электронейромиография (ЭНМГ), ультразвуковое исследование (УЗИ), магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография и рентгенография.
Результаты и обсуждение
С начала специальной военной операции (СВО) на Украине наблюдается следующая частота встречаемости повреждений нервов: локтевой и лучевой — примерно по 20 %, срединный — 17,2 %, седалищный и малоберцовый — примерно по 13 %, большеберцовый — 7 %, плечевое сплетение — 6,3 %, мышечно-кожный — 2,5 %, бедренный — 1 %.
Таким образом, на нервы верхних конечностей приходится 66 % травм, что примерно соответствует соотношению, характерному для мирного времени. Первоначальное впечатление о возросшей частоте встречаемости травм нервных стволов нижних конечностей связано с большими трудозатратами на лечение и уход за этой категорией раненых, значительном ограничении их мобильности.
В соответствии с «Клиническими рекомендациями по диагностике и хирургическому лечению повреждений и заболеваний периферической нервной системы» [10] в качестве диагностического стандарта указано следующее: «Диагноз поражения периферической нервной системы ставится в первую очередь на основании клинических данных». Детальное описание клинической картины повреждения нерва и имеющегося неврологического дефицита в полном объеме осуществляет врач-невролог при осмотре раненого в ходе поступления в стационар. Тогда же и формулируется предварительный диагноз.
В этих же «Клинических рекомендациях...» [10] указано, что ЭНМГ проводится всем больным с травматическими и нетравматическими поражениями периферической нервной системы для объективизации патологических изменений, оценки их локализации, выраженности и, при необходимости, динамики. На наш взгляд, ЭНМГ должна рассматриваться в качестве стандарта в диагностике боевых повреждений периферических нервов. Однако ее выполнение в первые 2 нед. с момента ранения в большинстве случаев нецелесообразно. По итогам проведенной консультации врач-невролог должен указать оптимальный срок выполнения этого исследования: «через 14 суток, либо по заживлению огнестрельной раны». Причинами отсроченного выполнения исследования являются:
- недостоверность данных ЭНМГ в 1-е сутки после повреждения нерва [4];
- наличие повязок на огнестрельной ране конечности;
- усиление интенсивности болевого синдрома, особенно при выполнении игольчатой ЭНМГ.
Несмотря на относительно отсроченный характер исследования, считаем его выполнение перед реконструктивным вмешательством строго обязательным, в первую очередь для оценки динамики восстановления функции нерва после операции. Основываясь на имеющемся массиве клинических наблюдений пациентов с боевыми повреждениями периферических нервов, контрольная ЭНМГ неинформативна первые 6–9 мес. после реконструкции. Отсутствие признаков клинического выздоровления совместно с отсутствием признаков восстановления проведения по данным ЭНМГ через 9 мес. после реконструкции может служить показанием для повторного оперативного вмешательства на нервном стволе.
В последние годы в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова активно применяются такие нейровизуализационные способы диагностики, как МР-нейрография и УЗИ периферических нервов.
Обследование пострадавших, в первую очередь с травмами плечевого и пояснично-крестцового сплетений, с помощью МРТ позволяет оценить уровень, степень и протяженность морфологических изменений в нервных стволах, а также выраженность рубцово-спаечного процесса. Однако нелинейный ход нервных стволов сильно затрудняет процесс сбора и обработки данных. К преимуществам описываемого метода следует отнести неинвазивность исследования, отсутствие лучевой нагрузки, однако существует противопоказание к выполнению — наличие у пострадавших металлических инородных тел. При МРТ патологические изменения нерва крайне трудно дифференцировать между собой с точки зрения дальнейших процессов регенерации и определения тактики лечения. Для лучшей визуализации повреждений периферических нервов конечностей необходимо использовать томографы с индукцией магнитного поля 3 Тл, которые на сегодняшний день не имеют широкого распространения [11–14].
За время проведения СВО МР-нейрография была применена к ограниченному числу пациентов, страдающих повреждениями периферических нервов, не более 7 % от общего количества. Основным противопоказанием для ее выполнения было наличие у большинства раненых металлических инородных тел (осколков, поражающих элементов различных снарядов). Безусловно, на частоту применения МР-нейрографии повлиял и логистический фактор (расположение томографа на удалении от стационара, где в основном оказывается помощь раненым с повреждениями нервов), а для ряда госпиталей Министерства обороны Российской Федерации МР-нейрография и вовсе недоступна (среди причин — отсутствие томографа, соответствующих компьютерных программ, подготовленных для выполнения МР-нейрографии специалистов).
Невзирая на вышеперечисленные обстоятельства, следует отметить чрезвычайную пользу МР-нейрографии в диагностике повреждений плечевого и пояснично-крестцового сплетений, крупных нервов нижних конечностей в области таза. В 55 % случаев ее выполнение позволило избежать проведения ревизионного оперативного вмешательства в раннем периоде травмы нерва.
УЗИ при травмах нервов — быстро развивающаяся, доступная методика визуализации, который может выявить анатомическую целостность нервного ствола и исключить необходимость выполнения ревизионной операции. Чувствительность и специфичность УЗИ в выявлении повреждений периферических нервов составляет 93,6 и 68,2 % соответственно. Точность УЗИ достигает 86,4 % при уровне ложноотрицательных и ложноположительных ответов 6,4 и 31,8 % соответственно. Таким образом, общая информативность УЗИ в выявлении повреждений периферических нервов конечностей составляет более 85 %, что позволяет рассматривать его в качестве ведущего способа визуализации патоморфологических изменений структур. УЗИ достоверно выявляет различные формы повреждений периферических нервов конечностей на дооперационном этапе: полный анатомический перерыв, частичный анатомический перерыв, грубые внутриствольные изменения при тракционном характере травмы, внутриствольные гематомы, сдавление нервного ствола инородными телами, пластинами для остеосинтеза, рубцами. Наибольшая диагностическая эффективность, с точностью 88,3 %, определяется при полном анатомическом перерыве нервного ствола. УЗИ также представляет собой методику контроля консервативного лечения, в послеоперационном периоде позволяющую выявить как ранние, так и поздние осложнения оперативных вмешательств на нервах [11, 15–17].
Выполнение УЗИ при боевых повреждениях нервов следует осуществлять сразу после заживления огнестрельной раны (на 5–7-е сутки после наложения вторичных швов), при отсутствии массивного разрушения мягких тканей или установленных аппаратов внешней фиксации. Исключение — наличие выраженной невропатической боли в проекции зоны иннервации скомпрометированного нервного ствола, не поддающейся купированию консервативными способами лечения. В этой ситуации поверхность кожи и рану обрабатывают растворами антисептиков, а на датчик надевают стерильный чехол.
Наиболее оптимальным организационным вариантом считаем проведение данного исследования одновременно врачом ультразвуковой диагностики и нейрохирургом.
При массовом поступлении раненых в стационар целесообразно установить фиксированные дни недели и время проведения подобного скринингового исследования. С учетом объема поступающего потока в клинику нейрохирургии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова достаточным было назначение 1–2 дней в неделю по 2–2,5 ч. Эмпирическим путем установлено, что за это время работы диагностическая бригада может провести обследование 10–14 раненых соответствующего профиля.
Рентгенография и компьютерная томография выполняются сразу после поступления раненого в хирургический стационар, по результатам исследований определяется дальнейшая тактика лечения. В диагностике повреждений периферических нервов, вследствие своих возможностей, они имеют вторичное значение, чаще всего применяются с целью поиска инородных тел, внедренных в нервный ствол или компримирующих его.
Таким образом, все способы исследования повреждений периферических нервов, которые активно развивались и внедрялись в клиническую практику последние 10–15 лет, подтвердили свою ценность и нашли применение в условиях СВО и массового поступления раненых.
Диагностика на первичных этапах медицинской эвакуации осуществляется исключительно на основе оценки клинической картины повреждения нерва. Оперативные вмешательства на нервных стволах до этапа специализированной помощи не выполняются, за крайне редкими исключениями, которые описаны ниже.
Постулаты диагностики и оказания помощи при боевых повреждениях нервов на догоспитальных этапах сформулированы и описаны К.А. Григоровичем [18], А.Н. Соломиным [19], Б.А. Самотокиным [20], Ф.С. Говенько [21], Е.Д. Алексеевым [1]. С небольшими изменениями они были ретранслированы в новейшие указания и руководства по военно-полевой хирургии [6, 22].
После выполнения как можно более ранней первичной диагностики можно выделить несколько групп раненых.
Группа 1. Раненые, не нуждающиеся в выполнении реконструктивного вмешательства в раннем периоде.
При наличии клинической картины и отсутствии данных при УЗИ или МРТ о наличии морфологического повреждения нерва или грубого периневрального рубцового процесса пациенту рекомендуется консервативное лечение либо под наблюдением врача-невролога, либо непосредственно в неврологическом отделении. Перевод его в нейрохирургическое отделение не показан. В своих рекомендациях нейрохирург указывает целесообразность повторного осмотра с выполнением УЗИ нерва через 1,5–2 мес. при отсутствии положительной динамики от проводимого лечения. По нашим данным, из общего количества первично обследованных пациентов в эту группу попали 38 % раненых с клиникой невропатии. На повторный осмотр прибыла примерно треть из них, причем у большей части вернувшихся отмечен постепенный регресс имевшегося неврологического дефицита. Отсроченное оперативное вмешательство по итогам этой консультации было предложено 25 % пациентов (менее 10 % от общего количества пациентов этой группы) в связи с появлением грубых рубцовых изменений, компримировавших нерв и отсутствовавших или слабовыраженных при первом исследовании, выявленной боковой или внутриствольной невромы, занимающей половину или более площади поперечного сечения нервного ствола. Операция чаще ограничивалась невролизом с обязательной импрегнацией в конце вмешательства противоспаечным средством. Дальнейшее ведение прооперированных раненых осуществлялось по схеме, указанной для второй группы пострадавших (см. ниже).
Группа 2. Раненые, нуждающиеся в реконструктивной операции в раннем периоде (54 % от всех обследованных).
К этой группе отнесены все случаи, характеризующиеся наличием полного анатомического перерыва нерва, частичного анатомического перерыва, особенно с повреждением более 50 % площади поперечного сечения нерва, отрыва корешков от спинного мозга вследствие тракционного повреждения. Также в ходе обследования отмечались интраневрально или параневрально расположенные инородные тела (ранящие снаряды), сдавления нерва рубцом, массивными межмышечными гематомами, костными отломками или формирующейся костной мозолью, пластиной для накостного остеосинтеза. По этиологии повреждений во 2-й группе пациентов превалировали огнестрельные осколочные (46 %) и минно-взрывные (42 %) ранения. Огнестрельные пулевые ранения стали причиной невропатии всего в 8 % случаев, оставшиеся 4 % пришлись на минно-взрывную травму.
Оптимальным сроком выполнения оперативного вмешательства при таких повреждениях считаем 1–2 нед. после выполнения диагностики: через 5–7 дней после наложения вторичных швов, сразу после удаления аппаратов внешней фиксации. Раннее выполнение реконструкции (в среднем через 3–6 нед. после ранения) существенно сокращает продолжительность госпитализации пациента в окружном или центральном военно-лечебном учреждении. Следуя описываемой тактике, закономерно ожидать увеличения частоты благоприятных исходов и уменьшения сроков восстановления функции поврежденного ствола. Чем раньше будет выполнено реконструктивное вмешательство на нерве, тем с большей вероятностью и быстрее восстановится его функция.
Предварительный анализ за прошедшее время работы показал наиболее частые варианты оперативного пособия: микрохирургический эпиневральный шов — 44 %, далее — невролиз (36 % (внешний — 28 %, внешний и внутренний — 8 %), аутоневральная пластика — 17 % (в 96 % случаев пластики в качестве аутотрансплантата применялись один или оба икроножных нерва, в 4 % — медиальный кожный нерв плеча и медиальный кожный нерв предплечья, поверхностная ветвь лучевого нерва), невротизация — 3%. Примерно по 10 % операций с наложением эпиневрального шва по типу «чемоданной ручки» проводились при частичном анатомическом перерыве с выделением и сохранением интактных участков нерва.
В ходе работы мы столкнулись с проблемой преодоления диастаза между центральным и периферическим концами поврежденного ствола. Методики, применяемые в повседневной деятельности (мобилизация концов нерва на протяжении, сгибание конечности в прилежащих суставах и, для некоторых нервов, транспозиция), не всегда были эффективными. Встал вопрос о том, как устранить протяженный дефект нервного ствола, и решение было найдено. Авторы внедрили устройство для контракции центрального и периферического концов поврежденного нерва при его полном анатомическом перерыве1 (рис.).
Рис. Устройство для контракции центрального и периферического концов поврежденного нервного ствола при его полном анатомическом перерыве
Fig. Device for contraction of the central and peripheral ends of a damaged nerve trunk in case of its complete anatomical rupture
Устройство работает следующим образом: специалист выполняет микрохирургический невролиз дистального и проксимального участков поврежденного ствола. Концевые невромы прошиваются крестообразным швом монофиламетной нерезорбируемой нитью 2/0. Далее осуществляется выведение нити через контрапертурные разрезы кожи. После зашивания раны, поверх перевязочного материала, устанавливается каркас-рама со встроенной шкалой-линейкой с закрепленными нитями. Ими прошиты концевые невромы ствола, которые фиксированы к пластиковым кольцам, связанным между собой и подвижным по горизонтали. Дистракция концов нерва производится путем натяжения нитей в противоположные стороны по 5 мм 1 раз в 3 дня.
В подавляющем большинстве случаев техника выполнения оперативного вмешательства была стандартной и детально описана в профильных руководствах по хирургии периферической нервной системы. Хирургическое лечение заканчивалось аппликацией противоспаечным комплексом. В первые месяцы нами применялся препарат зарубежного производства, в дальнейшем мы перешли на аппликацию отечественным препаратом, к преимуществам которого можно отнести его относительно невысокую стоимость и доступность.
При невролизе иммобилизация конечности не выполнялась. Наоборот, пациентам рекомендовалась ранняя активизация, сразу после купирования послеоперационного болевого синдрома. После перенесенной аутоневральной пластики в большинстве случаев также не требовалась иммобилизация, так как длина аутотрансплантата на 10–20 % превышала величину имевшегося дефекта ствола. Однако выполнение микрохирургического эпиневрального шва требовало обездвиживания конечности в положении, способствующем сближению концов сшитого нерва, на срок около 3 нед. с последующим постепенным ее разгибанием (10 градусов в 2–3 дня). Гипсовые лонгеты практически не применялись. Для верхней конечности достаточным оказалось ношение косынки с дополнительной фиксацией лучезапястного сустава бинтом к шее в форме восьмерки. Для нижней конечности (при шве седалищного, большеберцового, общего малоберцового нервов) применялись ортезы. Из всех испробованных моделей наиболее удачным оказался ортез, который имеет возможность изменения длины шин (отсутствует необходимость индивидуального подбора в зависимости от роста пациента) и регулировки фиксации с шагом в 10°.
Примеры нетипичных вариантов выполнения оперативного пособия, использования оригинальных инструментов и устройств будут рассмотрены в отдельных статьях, посвященных эксклюзивным клиническим случаям. Авторы считают весьма перспективной технологию, активно применяемую московской школой военной нейрохирургии и Волгоградским военным госпиталем: одномоментная реконструкция нервного ствола и сухожильно-мышечная транспозиция [23, 24].
Всем пациентам 2-й группы с повреждением крупных нервов нижних конечностей осуществлялась профилактика тромбоэмболических осложнений в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами2. У 1 пациента по результатам УЗИ во время предоперационной диагностики был выявлен флотирующий тромб подколенной вены, что потребовало установки кава-фильтра и переноса реконструктивной операции на 2 мес. Еще 2 пациента с диагностированными тромбозами вен нижних конечностей были переведены на лечебные дозы антикоагулянтов и прооперированы позже.
Нельзя не остановиться на рассмотрении вопроса об осложнениях. Инфекция области хирургического вмешательства отмечена в 2,3 % случаев, что не превышает описанную частоту развития этого осложнения при «чистых» (1,5–6,9 %) и «условно чистых» (7,8–11,7 %) ранах [25]. Во всех случаях гнойных осложнений с ними удалось справиться «условно консервативными» способами лечения без выполнения радикальной санирующей операции. Примерно в 2 % случаев на следующие сутки после выполненного реконструктивного оперативного вмешательства была диагностирована послеоперационная гематома большого объема. Всем пациентам с этим осложнением выполнялось повторное оперативное вмешательство по поводу санации гематомы. Какого-то одного источника кровотечения не определялось, во всех случаях визуализировано диффузное истечение крови из рубцовой ткани, окружающей нерв. Достаточно высокую частоту встречаемости этого осложнения при операциях, выполненных в ранние сроки, мы связываем с незавершенным процессом ангиогенеза и формированием полноценных стенок сосудов в развивающейся рубцовой ткани. У 3 пациентов в сроки от 1 до 15 дней после вмешательства был диагностирован разрыв выполненного эпиневрального шва. Во всех случаях это осложнение затронуло нервы нижних конечностей (2 — седалищный, 1 — общий малоберцовый) и связано с самостоятельным снятием ортеза и нарушением рекомендаций врача. Факт разрыва шва нерва был установлен по данным контрольного УЗИ. Все 3 пациента были реоперированы с выполнением аутопластики.
На 5–10-е сутки после оперативного вмешательства пациентам с выполненным микрохирургическим эпиневральным швом проводилось контрольное УЗИ, однако целесообразность выполнения данного исследования в раннем послеоперационном периоде у пациентов с невролизом и аутопластикой нам представляется сомнительной (за исключением случаев диагностики гематом).
При отсутствии осложнений на 3–10-е сутки после операции раненых переводят в неврологическое отделение. В профильном стационаре сразу начинаются мероприятия ранней реабилитации, медикаментозная терапия и представление пациентов на военно-врачебную комиссию.
Ранний перевод пациента в неврологическое отделение не только способствует скорому началу восстановительного лечения под наблюдением врача-невролога, но и освобождает нейрохирурга от решения экспертных вопросов, которые в условиях некоторых военно-медицинских организаций занимают до 2–3 нед. Такая логистика позволила сократить время пребывания раненого, страдающего травматической невропатией, в нейрохирургическом стационаре до 14 сут. — показатель, недостижимый в годы предыдущих военных конфликтов и в мирное время [14]. Плановые оперативные вмешательства (а хирургия нервов — практически всегда плановая хирургия) часто откладывались или переносились в связи с массовым поступлением раненых, нуждающихся в оказании экстренной или неотложной помощи.
Контрольное обследование с выполнением УЗИ нерва назначается всем пострадавшим 2-й группы через 6–9 мес. после выписки из стационара.
Группа 3. Самая малочисленная и сложная для курации группа — раненые, страдающие невропатическим болевым синдромом. Сюда же можно отнести раненых с ампутированными конечностями и фантомными болями. Их доля в общем потоке пациентов, страдающих невропатиями, составила примерно 8 %. Критерий включения в группу: интенсивность болей 7–10 баллов по визуально-аналоговой шкале. По пораженным нервам ⅔ этой группы пришлись на седалищный нерв и его крупные ветви, ⅓ — на срединный нерв.
Болевой синдром присутствовал у всех пациентов с момента поступления в общехирургический стационар. При первичной консультации невролога всем раненым этой группы назначался габапентин. Однако, несмотря на увеличение дозировки до максимальных суточных значений, препарат показал свою полную несостоятельность при невропатических болевых синдромах, обусловленных боевыми повреждениями нервов.
Невозможность выполнения УЗИ на ранних сроках госпитализации или выполнения операции в срочном порядке (гнойный процесс в области ранения, массовое поступление пациентов, нуждающихся в оказании экстренной и неотложной помощи, и другие, в первую очередь организационные, причины) требовала проведения имплантации эпидурального или периневрального катетера для введения анестетиков (наиболее предпочтительным считаем ропивакаин). Как правило, продолжительность работы катетера составляла 10 дней.
При выполнении УЗИ и первичной консультации нейрохирурга у более чем 80 % раненых этой категории определялись достаточно грубые повреждения нервного ствола с его полным или частичным анатомическим перерывом, сдавлением нерва костными отломками, инородными телами, рубцом, интраневральные инородные тела, образование концевых невром при ампутации конечности, внутриствольные гематомы.
Однако примерно в 20 % случаев ультразвуковая картина не соответствовала интенсивности болевого синдрома и, как правило, заключалась в наличии локального отека нервного ствола. Интраоперационно у этих раненых выявлено геморрагическое пропитывание нервного ствола. Этап лечения пациентов данной группы чаще завершался наружным и внутренним невролизом, однако 1 пациенту было произведено иссечение поврежденного участка с выполнением аутоневральной пластики.
Раненых этой группы оперировали в сроки не более 10–14 сут. после диагностики, невзирая на наличие незаживших огнестрельных ран. Выполнялись типичные приемы для того или иного вида повреждений. При неэффективности операции (около 1/3 всех раненых этой группы) ведущую роль в дальнейшем лечении пострадавших играли врачи-неврологи.
При неэффективности консервативной терапии пациентов, страдающих фантомной болью, следует оценить показания к хирургическому лечению. Предварительно под ультразвуковой навигацией выполняют селективную блокаду пораженного нервного ствола. Значимый регресс боли после данной манипуляции является предиктором положительного результата предстоящего деструктивного оперативного вмешательства — невротомии. Оно проводится с применением традиционного для скомпрометированного нерва доступа. Отсутствие эффекта от прямого вмешательства на перерезанном нервном стволе может потребовать применения функциональной нейрохирургии: проведения хронической стимуляции спинного мозга (spinal cord stimulation — SCS) или выполнения операции разрушения зоны входа задних корешков (dorsal root entry zone — DREZ) [26].
Комплексный подход в лечении пациентов, страдающих нейропатической болью, позволил практически полностью отказаться от выполнения деструктивного оперативного вмешательства — поясничной (шейной) симпатэктомии. Данная манипуляция в годы предыдущих военных конфликтов была одним из основных элементов лечения некупируемой нейропатической боли. С начала СВО поясничная симпатэктомия была выполнена 1 раз, в самом начале работы с ранеными. Авторы статьи, несмотря на эффективность вмешательства, сожалеют о его выполнении.
На основе имеющейся отечественной классификации повреждений периферических нервов, с учетом изученного материала и хирургического опыта, нами была разработана классификация боевых повреждений периферических нервных стволов.
- По этиологии повреждения:
- боевая травма
- ятрогенные повреждения вследствие неправильных действий при операциях и различных медицинских процедурах, например, при неправильном наложении жгута
- автотравма
- кататравма
- и др.
- По риску инфицирования:
- открытые:
- огнестрельные (пулевые, осколочные, минно-взрывные ранения, взрывные травмы)
- неогнестрельные (резаные, рубленые, рвано-ушибленные, укушенные, колотые, ожоговые и др.)
- закрытые: (сотрясение, ушиб, сдавление (компрессионно-ишемическое поражение), растяжение/тракция)
- открытые:
- По типу:
- одиночные/множественные (повреждение одного или нескольких нервных стволов одной конечности)
- сочетанные (с повреждением других сегментов тела)
- комбинированные (при действии нескольких поражающих факторов: ионизирующая радиация, термическое воздействие, отравляющие вещества и др.)
- кооперированные (с повреждением сухожилий, костей, суставов, сосудов, обширным дефектом мягких тканей пострадавшей конечности)
- одноуровневые/многоуровневые (повреждения одного нервного ствола на нескольких участках)
- По локализации и уровню:
- черепные нервы
- сплетения: шейное, плечевое, поясничное
- нервы конечностей: верхних/нижних (лучевой, срединный, локтевой/седалищный, большеберцовый, малоберцовый и др.)
- на уровне нижней трети плеча, коленного сустава, верхней трети предплечья и проч.
- По патоморфологическим нарушениям:
- с полным анатомическим перерывом нерва
- с частичным анатомическим перерывом (надрывом) нерва
- внутриствольные повреждения нерва (гематома, инородные тела, субэпиневральный разрыв пучков с формированием внутриствольной невромы)
- По функциональным нарушениям:
- с полным блоком проведения (при полном анатомическом перерыве в диагноз не выносится)
- с частичным сохранением проводимости
- с нейропатическим болевым синдромом
- Периоды повреждений нервов: острый, ранний, промежуточный, поздний, отдаленный
Заключение
Основываясь на разработанных предшественниками принципах организации оказания помощи раненым с повреждениями периферических нервов и личном опыте, мы постарались систематизировать алгоритмы диагностики, лечения и маршрутизации пациентов соответствующей категории. Интенсивное развитие в последние десятилетия как диагностических (УЗИ нервов, МР-нейрография), так и лечебных (новые препараты для лечения боли, противоспаечные комплексы, селективные блокады под УЗ-навигацией) методик закономерно требует их применения у раненых. Новые диагностические возможности позволили определять точные показания к реконструктивному оперативному вмешательству в раннем периоде (в среднем через 3–6 нед. после ранения).
К сожалению, наблюдается не массовый, но заметный поток раненых, которым оперативное вмешательство в раннем периоде не выполнялось. Их госпитализируют на реконструктивное лечение через 5–12 мес. после травмы, на момент осмотра они имеют выраженную мышечную атрофию, контрактуры суставов и зачастую все это время безуспешно борются с болевым синдромом.
Новая концепция оказания помощи раненым, страдающих повреждениями периферических нервов, требует тесного комплексного взаимодействия с врачами смежных специальностей на всех этапах лечения пострадавшего. Оно, во-первых, доказало свою эффективность в лечении невропатической боли у рассматриваемых категорий пострадавших. Во-вторых, за ранним выполнением реконструктивного вмешательства следует скорое восстановительное лечение под наблюдением врача-невролога. Наблюдение за пациентом не должно прекращаться после выписки из стационара. Считаем обязательным проведение контрольных физикальных и инструментальных обследований через 6–9–12 мес. после операции. Сохранение контакта с прооперированными пациентами позволит создать наиболее представительную в Российской Федерации базу данных для определения эффективности тех или иных оперативных способов лечения травм нервных стволов. Надеемся, что ретроспективный анализ покажет преимущества новой концепции оказания помощи раненым, страдающим повреждениями периферических нервов.
Дополнительная информация
Вклад авторов. Все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией.
Вклад каждого автора. А.И. Гайворонский — разработка общей концепции, написание статьи, анализ данных; Д.В. Свистов — разработка общей концепции, написание статьи, анализ данных; С.В. Коломенцев — написание статьи, анализ данных; Д.В. Овчинников — дизайн исследования, анализ данных; Е.В. Ивченко — дизайн исследования, анализ данных; И.Е. Онницев — сбор и статистическая обработка данных; М.А. Приймак — статистическая обработка и анализ данных; Л.И. Чуриков — обзор литературы, анализ данных; Д.М. Исаев — систематизация и анализ данных; Е.Д. Алексеев — обзор литературы, анализ данных; И.Н. Исенгалиев — сбор, обработка и анализ данных; Е.А. Петренко — сбор, обработка и анализ данных.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования.
Additional information
Authors’ contribution. Thereby, all authors made a substantial contribution to the conception of the study, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the article, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the study.
The contribution of each author. A.I. Gaivoronsky — development of a general concept, writing an article, data analysis; D.V. Svistov — development of a general concept, writing an article, data analysis; S.V. Kolomentsev — writing an article, data analysis; D.V. Ovchinnikov — research design, data analysis; E.V. Ivchenko — research design, data analysis; I.E. Onnitsev — data collection and statistical processing; M.A. Priymak — statistical data processing and analysis; L.I. Churikov — literature review, data analysis; D.M. Isaev — systematization and data analysis; E.D. Alekseev — literature review, data analysis; I.N. Isengaliev — data collection, processing and analysis; E.A. Petrenko — data collection, processing and analysis.
Competing interests. The authors declare that they have no competing interests.
Funding source. This study was not supported by any external sources of funding.
Благодарность
Авторы выражают искреннюю благодарность доценту кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, кандидату медицинских наук Малецкому Эдуарду Юрьевичу, который с началом СВО организовал курсы повышения квалификации по ультразвуковой диагностике повреждений периферической нервной системы для врачей Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова и госпиталей Минобороны России.
1 Приймак А.М., Круглов И.А., Свистов Д.В., Гайворонский А.И. Патент на полезную модель № 220339 U1 Российская Федерация, МПК A61B 17/11, A61B 17/56. Устройство для контракции центрального и периферического концов поврежденного нервного ствола при его полном анатомическом перерыве: № 2023109915: заявл. 19.04.2023: опубл. 07.09.2023. Бюллетень № 25 // заявитель Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации. Режим доступа: https://patents.google.com›patent/RU220339U1/ru
2 Национальный стандарт Российской Федерации. Клинические рекомендации (протоколы лечения). Профилактика тромбоэмболических синдромов. ГОСТ Р 56377-2015. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2015 г. № 201-ст.
作者简介
Alexey I. Gaivoronsky
Kirov Military Medical Academy
Email: vmeda-nio@mil.ru
ORCID iD: 0000-0003-1886-5486
SPIN 代码: 7011-6279
Dr. Sci. (Medicine), professor
俄罗斯联邦, Saint PetersburgDmitrii V. Svistov
Kirov Military Medical Academy
Email: vmeda-nio@mil.ru
ORCID iD: 0000-0002-3922-9887
SPIN 代码: 3184-5590
MD, Cand. Sci. (Medicine), associate professor
俄罗斯联邦, Saint PetersburgSergey V. Kolomentsev
Kirov Military Medical Academy
Email: vmeda-nio@mil.ru
ORCID iD: 0000-0002-3756-6214
SPIN 代码: 6439-6701
MD, Cand. Sci. (Medicine)
俄罗斯联邦, Saint PetersburgDmitrii V. Ovchinnikov
Kirov Military Medical Academy
Email: vmeda-nio@mil.ru
ORCID iD: 0000-0001-8408-5301
SPIN 代码: 5437-3457
MD, Cand. Sci. (Medicine), associate professor
俄罗斯联邦, Saint PetersburgEvgeniy V. Ivchenko
Kirov Military Medical Academy
Email: vmeda-nio@mil.ru
ORCID iD: 0000-0001-5582-1111
SPIN 代码: 5228-1527
MD, Dr. Sci. (Medicine), professor
俄罗斯联邦, Saint PetersburgIgor E. Onnintsev
Main Military Clinical Hospital named after academical N.N.Burdenko
Email: vmeda-nio@mil.ru
ORCID iD: 0000-0002-3858-2371
SPIN 代码: 9659-4740
MD, Dr. Sci. (Medicine)
俄罗斯联邦, MoscowMaxim A. Priymak
Kirov Military Medical Academy
Email: vmeda-nio@mil.ru
ORCID iD: 0000-0003-4621-3442
SPIN 代码: 6826-2947
neurosurgeon
俄罗斯联邦, Saint PetersburgLeonid I. Churikov
Kirov Military Medical Academy
Email: vmeda-nio@mil.ru
ORCID iD: 0000-0002-4982-7848
SPIN 代码: 5236-5732
MD, Cand. Sci. (Medicine)
俄罗斯联邦, Saint PetersburgDzhamaludin M. Isaev
Kirov Military Medical Academy
Email: vmeda-nio@mil.ru
ORCID iD: 0000-0003-3336-3230
SPIN 代码: 3523-1801
MD, Cand. Sci. (Medicine)
俄罗斯联邦, Saint PetersburgEvgenii D. Alexeev
Kirov Military Medical Academy
Email: vmeda-nio@mil.ru
ORCID iD: 0009-0008-9962-2470
SPIN 代码: 3285-9342
MD, Cand. Sci. (Medicine)
俄罗斯联邦, Saint PetersburgIlyas N. Isengaliev
Main Military Clinical Hospital named after academical N.N.Burdenko
Email: vmeda-nio@mil.ru
ORCID iD: 0000-0002-6444-4757
SPIN 代码: 4061-9757
neurosurgeon
俄罗斯联邦, MoscowElizaveta A. Petrenko
Kirov Military Medical Academy
编辑信件的主要联系方式.
Email: vmeda-nio@mil.ru
ORCID iD: 0009-0006-6283-4088
cadet
俄罗斯联邦, Saint Petersburg参考
- Alexeev ED. Differentiated treatment of modern combat gunshot injuries of peripheral nerves [dissertation abstract]. Saint Petersburg; 1998. 22 р. (In Russ.)
- Chernov VE. Organization of specialized neurosurgical care in armed conflicts [dissertation]. Saint Petersburg; 2001. 164 р. (In Russ.)
- Martynov BV. The main directions of improvement of specialized neurosurgical care in the North Caucasus region. [dissertation]. Saint Petersburg; 2003. 167 р. (In Russ.)
- Zhivolupov SA, Rashidov NA, Samartsev IN, Yakovlev EV. Peculiarities of development of denervation-reinervation process in traumatic neuropathies and plexopathies. Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2013;(3):190–198. EDN: RCLBML
- Bersnev VP, Kokin GS, Izvekova TO. Practical guide to nerve surgery: in 2 vol. Vol. 1. Saint Petersburg: RNHI named after A.L. Polenov; 2009. 291 p. (In Russ.)
- Samokhvalov IM, editor. Military field surgery: national guide. 2nd ed., rev. and supplement. Moscow: GEOTAR Media; 2024. 1056 p. (In Russ.)
- Belskikh AN, Samokhvalova IM, editors. Instructions on military field surgery. Moscow; 2013. 474 p. (In Russ.)
- Goncharov AV. Rendering surgical care to the wounded in military conflicts. [dissertation abstract]. Saint Petersburg; 2021. 43 p. (In Russ.)
- Mironovich N.I. Experience of Soviet medicine in the Great Patriotic War 1941-1945. Vol. 20. General statistical data on gunshot wounds of peripheral nerves. Moscow; 1952. P. 31–49. (In Russ.)
- Dreval ON, Kuznetsov AV, Djindzhikhadze RS, et al. Clinical recommendations on diagnosis and surgical treatment of injuries and diseases of the peripheral nervous system. Moscow; 2015. 34 p. (In Russ.)
- Zhurbin EA. Possibilities of ultrasound examination in traumatic injuries of peripheral nerves of extremities. [dissertation]. Saint Petersburg; 2018. 147 p. (In Russ.) EDN: XPSJPK
- Tagliafico A, Succio G, Emanuele Neumaier C, et al. MR imaging of the brachial plexus: comparison between 1.5-T and 3-T MR imaging: preliminary experience. Skeletal Radiol. 2011;40(6): 717–724. doi: 10.1007/s00256-010-1050-x
- Chhabra A, Lee PP, Bizzell C, et al. High-resolution 3-Tesla magnetic resonance neurography of musculocutaneous neuropathy. J Shoulder Elbow Surg. 2012;21(2):e1-e6. doi: 10.1016/j.jse.2011.06.008
- 14. Tagliafico A, Succio G, Serafini G, et al. Diagnostic performance of ultrasound in patients with suspected brachial plexus lesions in adults: a multicenter retrospective study with MRI, surgical findings and clinical follow-up as reference standard. Skeletal Radiol. 2013;42(3):371–376. doi: 10.1007/s00256-012-1471-9
- Zhurbin EA, Gaivoronsky AI, Zheleznyak IS. Diagnostic accuracy of ultrasound examination in injuries of peripheral nerves of limbs. Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2017(3): 63–68. EDN: ZOWNJB
- Maletskiy EYu, Korotkevich MM, Butova AV, et al. Measurements of peripheral nerves: comparison of ultrasound, mri and direct intraoperative data. Medical Visualization. 2015;(2):78–86. EDN: TTZQMN
- Maletsky EY. Possibilities of ultrasound examination in the diagnosis of tunnel neuropathies of the upper limb. [dissertation abstract]. Saint Petersburg; 2017. 22 p. (In Russ.)
- Grigorovich KA. Surgical treatment of nerve injuries. Leningrad: Medicine; 1981. 304 p. (In Russ.)
- Solomin AN. Limb nerve injuries: clinic, diagnosis, treatment in peacetime and wartime. [dissertation abstract]. Leningrad; 1975. 37 p. (In Russ.)
- Samotokin BA, Solomin AN. Complications in the treatment of traumas of nerves of extremities. Leningrad: Medicine; 1987. 92 p. (In Russ.)
- Govenko FS. Surgery of peripheral nerve injuries. Moscow: Phoenix; 2010. 384 p. (In Russ.)
- Trishkin DV, Kryukov EV, Chuprina AP, et al. Methodological recommendations for the treatment of combat surgical trauma. Saint Petersburg; 2022. 373 p. (In Russ.) EDN: MHOUOD
- Isengaliev IN, Besedin VD, Khrapov YuV. Tendon-muscle transposition in severe irreversible damage to the radial nerve: surgical technique and clinical practice. Medical Bulletin of the Main Military Clinical Hospital named after NN Burdenko. 2021(4):23–28. (In Russ.) EDN: PRCNWS doi: 10.53652/2782-1730-2021-2-4(6)-23-28
- Gizatullin ShKh, Isengaliev IN, Ovchinnikova MB. 70 years of the neurosurgical clinic of the Hospital named after NN Burdenko. Accumulated experience in the treatment of gunshot wounds of the central and peripheral nervous systems. Medical Bulletin of the Main Military Clinical Hospital named after NN Burdenko. 2022(4):32–41. EDN: NLUMVM doi: 10.53652/2782-1730-2022-3-4-32-41
- Bagnenko SF, Batkaev EA, Beloborodov VB, et al. Surgical infections of skin and soft tissues: Russian national recommendations. 2nd revised and supplemented edition. Moscow; 2015. 109 p. (In Russ.)
- Shabalov VA, Isagulian ED. What to do with difficult pain? (electrostimulation of the spinal cord and brain in the treatment of chronic non-oncological pain). Moscow; 2008. 96 p. (In Russ.)
补充文件