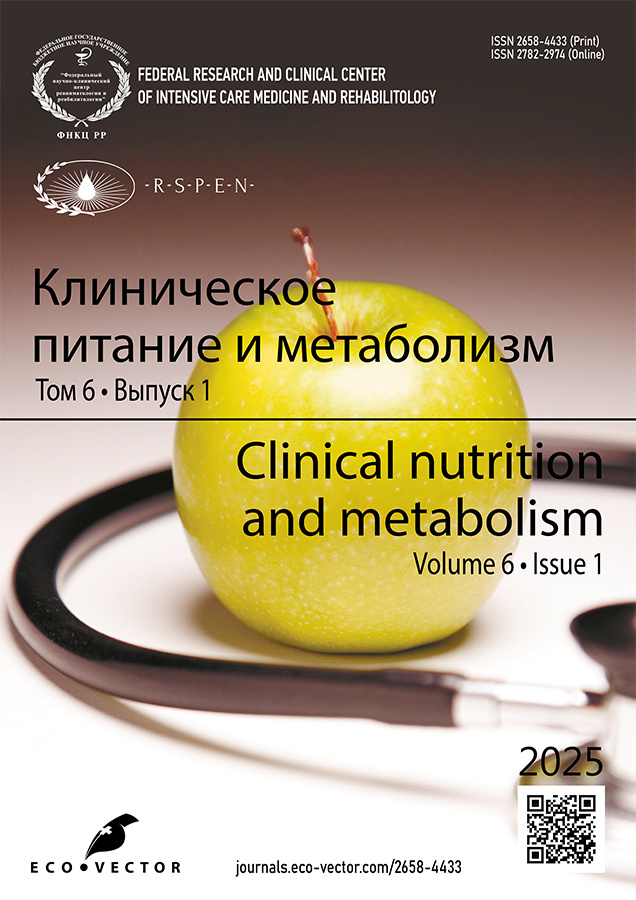Optimization of protein intake in adults with catabolic conditions: a review
- Authors: Obukhova O.A.1, Kurmukov I.A.1, Ryk A.A.2
-
Affiliations:
- National Medical Research Center of Oncology named after N.N. Blokhin
- N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency
- Issue: Vol 6, No 1 (2025)
- Pages: 14-25
- Section: Reviews
- Submitted: 05.09.2025
- Accepted: 16.09.2025
- Published: 23.09.2025
- URL: https://journals.eco-vector.com/2658-4433/article/view/690109
- DOI: https://doi.org/10.17816/clinutr690109
- EDN: https://elibrary.ru/UXZDFP
- ID: 690109
Cite item
Full Text
Abstract
Protein is one of the key macronutrients. Therefore, the development of protein deficiency adversely affects health status and treatment outcomes. At the same time, protein requirements vary considerably among different patient populations. Optimization of protein intake in at-risk groups remains an important issue, as it may influence the effectiveness of specialized treatment, quality of life, and social functioning of patients. The aim of this review was to examine approaches to correcting protein deficiency in the most vulnerable adult populations, including older and elderly individuals, oncology patients, and critically ill patients. Publications indexed in the Scientific Electronic Library (eLibrary.ru) and PubMed databases between 2000 and 2025 were analyzed. The analysis demonstrated the need for an individualized approach to protein prescription. The review discusses current trends in nutritional support for these patient populations. In cases of inadequate protein intake, the use of high-protein enteral formulas as a supplement to the regular diet can positively affect treatment outcomes and quality of life. Whey protein currently attracts particular interest. Its use has demonstrated promising results, especially in combination with omega-3 fatty acids. Thus, an individually tailored protein component in nutritional support may improve treatment outcomes and quality of life in older adults, oncology patients, and critically ill patients.
Keywords
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Белок выполняет роль ключевого субстрата, играющего важную роль в метаболических процессах, и служит важной структурной единицей клетки. Он обеспечивает репаративные процессы, а в составе ферментов и гормонов участвует в биохимических реакциях. Помимо этого, белок выполняет транспортную функцию и, являясь частью буферных систем, поддерживает кислотно-щелочное равновесие. В форме антител белки участвуют в процессах дезактивации патогенных микроорганизмов, а также служат источником энергии при недостаточном поступлении основных энергетических субстратов (углеводов, жиров и спиртов) или при развитии катаболического состояния [1].
Разнообразие функций белка делает его незаменимым макронутриентом. Поэтому достаточное поступление протеина считают необходимым условием поддержания здоровья. В разных странах нормы потребления протеинов для здоровых людей несколько различаются. Так, в Соединённых Штатах Америки рекомендуемое минимальное количество белка в ежедневном рационе составляет 0,8 г/(кг×сут), но не более 35% суточной калорийности рациона [2]. Согласно рекомендациям голландских учёных нормы потребления белка для взрослых со смешанным рационом соответствуют 8–11% потребляемой энергии в зависимости от возрастной группы и пола. Верхний предел поступления протеина установлен на уровне 25% суточной калорийности рациона [3]. В Российской Федерации количество рекомендуемого белка в рационе для взрослых колеблется от 12% общей калорийности для лиц, занятых физическим трудом, до 14% для работников умственного труда и населения старше 65 лет [4].
Для различных групп пациентов нормы потребления белка значительно отличаются от норм для здоровых людей. Как правило, для предотвращения развития белковой недостаточности предполагается увеличение удельного веса белка в рационе. В этом обзоре мы рассмотрим методы коррекции белковой недостаточности у наиболее уязвимых категорий взрослых пациентов: лиц пожилого и старческого возраста, онкологических пациентов и больных в критическом состоянии.
БЕЛКОВАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
До глубокой старости, как правило, доживают в целом довольно здоровые люди. Однако старческий возраст сам по себе ассоциирован с некоторыми, пока неизбежными расстройствами, в том числе с нарушениями питания. Так, согласно исследованию А.Л. Готиной и соавт., которые проанализировали данные 82 долгожителей, у 56% был выявлен риск развития синдрома мальнутриции, а у 11% обследованных обнаружили наличие той или иной формы недостаточности питания. Нарушения питания сопровождались анемией у 72%, гипоальбуминемией — у 17%, дефицитом витамина Д — у 98% пациентов [5].
Характерная для людей пожилого и старческого возраста астения имеет несколько причин, в основе которых лежит глобальная перестройка физиологических механизмов, а также влияние психологических и социальных факторов. Так называемые возраст-зависимые заболевания (ВЗЗ) во многом определяют рацион и режим питания пожилых пациентов. Основные патофизиологические механизмы ВЗЗ включают гиперинсулинемию и инсулинорезистентность, хроническое системное воспаление, митохондриальную дисфункцию, а также нарушение усвоения пищи вследствие неадекватной работы желудочнокишечного тракта (гипосекреция пищеварительных желёз, потеря зубов, нарушение функции глотания, замедление моторики) и кишечного дисбиоза [6]. Как результат, у пожилых людей часто отмечают непроизвольную потерю массы тела, снижение мышечной силы и выносливости, уменьшение подвижности и ограничение самостоятельности. В этой возрастной категории достаточно часто наблюдают анорексию старческого возраста, или анорексию старения. По данным метаанализа S.S.M. Fernandez и соавт., в котором проанализировали 36 исследований с общим размером выборки 29 864 296 человек, распространённость анорексии старения составляет 22,3% [7]. Анорексия старческого возраста поликазуальна. Важнейшей причиной её развития, помимо ВЗЗ, считают непатологические психические изменения. К таким нарушениям относят возраст-зависимое снижение пищевого влечения и уменьшение «гедонистических качеств» процесса потребления пищи (то есть удовольствия, получаемого от еды). Эти изменения происходят на фоне возрастного притупления вкуса и повышения значимости чувства насыщения [8]. Немаловажное значение играет возрастная депрессия, распространённость которой среди лиц старше 75 лет составляет около 17,1%. В качестве потенциальных факторов риска развития депрессивного состояния рассматривают смерть спутника жизни, социальную изоляцию, ухудшение физического состояния и соматические заболевания. Риск депрессии увеличивается при наличии инсомнии, нарушении подвижности, снижении повседневной активности и остроты зрения [9]. Иногда этому способствует и полипрагмазия, обусловленная наличием сопутствующих заболеваний. Её распространённость среди пожилых пациентов может достигать 84%. При приёме пяти и более препаратов очень сложно оценить все возможные межлекарственные взаимодействия, которые могут существенно ухудшать самочувствие больных [10]. Как показало исследование S.E. Kocyigit и соавт., у пожилых людей выраженность когнитивных нарушений напрямую влияет на нутритивный статус, а тяжёлая недостаточность питания — на выраженность когнитивных нарушений [11].
Для пожилых больных также характерна анаболическая резистентность — обусловленное возрастом замедление скорости синтеза собственного белка, в том числе в миофибриллах, даже при отсутствии дефицита нутриентов. Для преодоления этого феномена необходимо соблюдение ряда условий: достаточное поступление белка с рационом питания (1,0–1,5 г/(кг×сут)), превалирование в диете животного белка над растительным, равномерное его распределение между приёмами пищи и выполнение силовых упражнений. Преимущество животного белка объясняют его полноценным аминокислотным составом, который минимизирует дефицит незаменимых аминокислот. Кроме того, эти белки легче эвакуируются из желудка, лучше перевариваются и усваиваются в желудочно-кишечном тракте. Равномерное распределение белка между приёмами пищи (30–40 г на один приём, не менее 2 раз в день) в сочетании с физической активностью помогает увеличить или сохранить мышечную массу и достичь лучшего функционального статуса [12, 13].
В конечном счёте, патофизиологические аберрации, развивающиеся с возрастом, нередко приводят к развитию саркопении — синдрому, который характеризуется прогрессирующей и генерализованной потерей массы и силы скелетной мускулатуры. Саркопения сопровождается повышением концентрации таких цитокинов, как интерлейкин-6, интерлейкин-17A, фактор некроза опухоли-α, и коррелирует со снижением продолжительности жизни [14–16]. По разным данным, частота саркопении среди пожилого населения варьирует от 4,3% среди людей, проживающих дома, до 73,3% среди пациентов домов престарелых. В России распространённость саркопении (по критериям EWGSOP, European Working Group on Sarcopenia in Older People, Европейской рабочей группы по саркопении у пожилых людей) среди самостоятельных пациентов старше 65 лет, живущих дома, составляет 30%, увеличиваясь в возрастной группе старше 85 лет до 52,9% [17]. Согласно рекомендациям EWGSOP, для диагностики синдрома необходимо наличие двух критериев: низкой мышечной массы в сочетании с низкой мышечной силой и/или низкой физической работоспособностью [18]. Диагностика саркопении может быть затруднена на фоне ожирения, поскольку большая масса тела маскирует мышечное истощение. По данным метаанализа Q. Gao и соавт., который включил 50 исследований с общим объёмом выборки 86 285 человек, у 11% пожилых людей диагностируют саркопеническое ожирение. При этом его частота коррелирует с возрастом (у людей старше 75 лет — 23%) и госпитализацией в стационар (16%). Наиболее широко, по данным авторов, саркопеническое ожирение распространено среди жителей Южной и Северной Америки (21% и 19% соответственно) [19].
При развитии мышечного истощения значительно снижается качество жизни и уровень физической активности. S. Verlaan и соавт. сравнили антропометрические данные, показатели физического статуса, уровень физической активности, слабость по шкале Фрида, наличие нутритивной недостаточности и состав нутриентов в привычном рационе 122 самостоятельно живущих пациентов старше 66 лет с саркопенией и без неё. Помимо этого, авторы оценили концентрацию биохимических маркёров нутритивной недостаточности и витаминного статуса. Согласно полученным данным, показатели физического статуса (скорость ходьбы, оценка равновесия, время подъёма со стула, сила рукопожатия) в группе с саркопенией были значительно хуже, однако нутритивной недостаточности исследователи не обнаружили. Участники с саркопенией имели бόльшую массу тела (на 3,5 кг, p=0,015) за счёт жировой ткани (6 кг, p <0,001), при этом мышечная масса всех конечностей была достоверно меньше (на 1,4 кг, p <0,001). Уровень физической активности, способность выполнять повседневные обязанности, качество жизни, а также сывороточная концентрация витамина В12 в группе саркопении также были достоверно хуже. Интересно, что энергетическое обеспечение больных из разных групп не различалось, однако потребление белка относительно массы тела в группе саркопении было значительно меньше (на 6%). Пациенты с саркопенией употребляли 0,99 г/(кг×сут) против 1,09 г/(кг×сут) в группе сравнения (p=0,044). Авторы делают вывод, что такой уровень потребления белка недостаточен для сохранения и набора мышечной массы у пожилых людей [20]. Схожие результаты получены и в других исследованиях [21–23].
Фармакологического лечения саркопении не существует. Наиболее действенные меры включают дополнительный приём белка и выполнение силовых упражнений. K.J. Cheah и соавт. на примере 425 человек старше 55 лет с мышечным истощением показали эффективность как изолированного дополнительного приёма белковых модулей, так и сочетания белковых добавок с физическими упражнениями. Было отмечено увеличение мышечной массы, повышение физической активности и улучшение качества жизни участников исследования. Побочные эффекты в виде повышения азота мочевины, креатинина сыворотки и скорости клубочковой фильтрации зафиксированы только при потреблении белка свыше 1,38 г/(кг×сут) на протяжении длительного срока — 45 дней [24]. При этом увеличение количества белка в рационе за счёт обычных продуктов питания может быть неэффективно для коррекции мышечного истощения. Например, C.C. Carroll и соавт. оценивали эффект от повышения нормы белка до 1,4 г/(кг×сут) за счёт постной говядины у пожилых в течение 12 недель. Они не выявили увеличения ни силы, ни объёма мышц у испытуемых [25]. В то же время использование сывороточного белка в качестве дополнительного питания показывает хорошие результаты. Так, D. López-Daza и соавт. отметили увеличение мышечной массы при дополнительном приёме такого белка у больных сахарным диабетом 2 типа [26]. M.I. Nilsson и соавт. назначали одной группе пожилых мужчин домашние тренировки с эспандером и нутритивную поддержку, в состав которой, помимо сывороточного белка, входили казеин, креатин, витамин Д и омега-3 жирные кислоты. Вторая группа вместо белковой добавки получала изокалорийный и изонитрогенный напиток (плацебо) на основе коллагена и растительного масла. Оценивая результаты программы через 12 недель, авторы обнаружили улучшение мышечной массы, силы и выносливости в основной группе [27]. Опираясь на эти данные, можно предположить, что сывороточный белок легко усваивается и способствует регрессу мышечной слабости. В качестве высокобелковой добавки в составе лечебной диеты при белковой недостаточности у пожилых можно использовать специализированную смесь «Ресурс® Протеин» (Nestlé Health Science, Швейцария). В 100 мл этого продукта содержится 9,4 г молочного белка, из которых около 80% составляет казеин и 20% — сывороточный белок. Напиток, содержащий омега-3 жирные кислоты (180 мг в 100 мл), микроэлементы и витамины, является практически изокалорийным (1,25 ккал/мл). Его можно использовать как дополнение к обычной диете или принимать в качестве самостоятельного источника питания.
Таким образом, саркопения у пожилых людей представляет собой многофакторную проблему, обусловленную как физиологией старения, так и сопутствующими заболеваниями. Низкая мышечная масса провоцирует развитие немощности, лишает самостоятельности и увеличивает экономические затраты общества на обслуживание недееспособных пациентов. На сегодняшний день профилактика и лечение саркопении заключаются в увеличении потребления белка и обязательном выполнении силовых упражнений для наращивания мышечной массы. Для достижения этих целей оптимально использовать специализированные высокобелковые продукты со сбалансированным составом и гарантированным содержанием макро- и микронутриентов.
БЕЛКОВАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Одной из специфических причин развития белково-энергетической недостаточности у онкологических больных является паранеопластическое влияние злокачественной опухоли, обеспечивающее развитие синдрома хронического воспаления, который приводит к снижению синтеза эндогенного белка, извращению чувства голода и подавлению аппетита. Специфические субстанции, вырабатываемые опухолью (протеинмобилизующий и липидмобилизующий факторы), стимулируют распад собственных белков и ускоряют мобилизацию липидов из жировых депо. Другие важные и специфические для онкологии причины белково-энергетической недостаточности включают непосредственное поражение опухолью органов пищеварительного тракта и катаболическое действие системного противоопухолевого лечения. Эти механизмы лежат в основе так называемого синдрома анорексиикахексии. Для него характерны быстрая неконтролируемая потеря массы тела, анорексия и постепенное истощение мышечной ткани вплоть до саркопении [18]. По данным метаанализа M. Thormann и соавт., распространённость саркопении среди больных с солидными опухолями сос-тавляет 35,5%. Доля больных с мышечным истощением выше в Европе (45,6%) и Северной Америке (41,2%), чем в Азии (29,6%). Наиболее часто этот синдром диагностируют у больных раком пищевода (74,2%), предстательной железы (73,9%), поджелудочной железы (62,5%) и при почечно-клеточном раке (65,3%) [28]. У паллиативных больных ситуацию усугубляет неконтролируемый онкологический процесс, диспепсические проблемы (тошнота, рвота, констипация и диарея), тяжёлая анорексия, извращение восприятия вкусов и запахов [29]. Распространённость недоедания и саркопении в этой популяции больных составляет 68% и 77% соответственно [30].
Анорексия-кахексия и развивающаяся при отсутствии её своевременной коррекции саркопения негативно влияют на результаты противоопухолевого лечения и снижают выживаемость онкологических больных. Так, по данным I. Trestini и соавт., больные немелкоклеточным раком лёгкого с исходной саркопенией, получавшие лечение пембролизумабом, показали худшую частоту объективного ответа на терапию по сравнению с больными без саркопении. Кроме того, у них наблюдали более низкий функциональный статус по шкале ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group, Восточная кооперативная онкологическая группа), более короткую выживаемость без прогрессирования и общую выживаемость [31]. Исследования показали, что саркопения представляет собой фактор риска развития токсичности и увеличения числа послеоперационных осложнений у пациентов с опухолями головы и шеи, при колоректальном раке, опухолях пищевода, желудка, шейки матки, почечно-клеточном раке и др. [32–37].
Противоопухолевое лечение, как правило, напрямую способствует истощению мышечной ткани. Как показали Y. Su и соавт., риск развития саркопении значительно возрастает после проведения неоадъювантной химиотерапии, особенно при локализации опухоли в желудочно-кишечном тракте [38]. R. Sato и соавт. выявили, что у 64% пациентов раком желудка, которые прошли 2 курса неоадъювантной химиотерапии, мышечная масса уменьшилась в среднем на 3,4%. Снижение массы скелетной мускулатуры на 6,9% и более стало независимым негативным фактором прогноза общей и безрецидивной выживаемости у больных, перенёсших в дальнейшем радикальное оперативное вмешательство [39]. В послеоперационном периоде на фоне адъювантной химиотерапии потери мышечной массы продолжаются и составляют у больных раком желудка около 6,2% в год [40]. У больных с неоперабельным раком поджелудочной железы недостаток белка в рационе коррелирует с общей выживаемостью и выживаемостью без прогрессирования: при потреблении белка более 1,1 г/(кг×сут) эти показатели достоверно выше [41]. В то же время при дефиците белка калорийность рациона может оставаться достаточной. Например, у больных диффузной В-крупноклеточной лимфомой, по нашим данным, на старте лечения при адекватной энергообеспеченности (27,9 ккал/(кг×сут)) поступление белка было значительно снижено (0,91 г/(кг×сут)) [42].
Подобную ситуацию часто наблюдают в послеоперационном периоде. При одинаковой калорийности рациона часть больных недополучает белок, что негативно сказывается на результатах лечения [43]. По нашим данным, пациенты, перенёсшие радикальную операцию по поводу рака желудка, получают 0,86 г/(кг×сут) [44]. После выписки из стационара тенденция сохраняется, пациенты с трудом выполняют рекомендации по обеспечению калорийности рациона питания и обеспечению в диете адекватного удельного веса белка. По данным M. Kipouros и соавт., из 109 опрошенных больных только 14% соблюдали рекомендации по калорийности и около 25% — по потреблению белка [45]. Это приводит к тому, что в течение длительного времени пациентов беспокоит слабость, потеря массы тела, нарушение функционального и когнитивного статуса, влекущие за собой социальные и финансовые ограничения [46], которые усугубляют состояние тревоги и депрессии, способствуют более частому их развитию и отрицательно влияют на выживаемость [47].
В настоящее время точные потребности в белке, необходимые для запуска синтеза эндогенного протеина при ЗНО, неизвестны. Результаты краткосрочных исследований баланса азота у здоровых добровольцев не позволяют адекватно оценить потребность в белке для разных групп пациентов [48]. Однако, согласно различным данным, это значение превышает 1 г/(кг×сут) [49]. В связи с этим количество белка должно составлять не менее 1,5 г/(кг×сут). При таком уровне потребления белка, достаточной калорийности рациона и наличии физической активности можно достичь улучшения функционального статуса, качества жизни и результатов противоопухолевого лечения [44, 50, 51]. Дополнительное назначение белка решает проблему его дефицита, поскольку добавление протеина к блюдам основного рациона позволяет достичь адекватного обеспечения белком, не заменяя привычную диету на изонитрогенные питательные смеси. В метаанализе A.S.I. Rabie и соавт. показали, что использование сывороточного белка в качестве пищевой добавки в течение 12 недель увеличивает массу тела и силу хвата пациентов (через 3 и 6 мес). Значительным эффектом стало снижение гематологической токсичности химиотерапии, что положительно повлияло на результаты противоопухолевого лечения [52]. Подобную тактику применили C. Gillis и соавт. [53]. В рамках рандомизированного исследования они назначали пациентам с неметастатическим колоректальным раком на предоперационном этапе дополнительный сывороточный белок. Норму дополнительного белка определяли из расчёта 20% общего расхода энергии, измеренного методом непрямой калориметрии. Исследователи отметили высокую комплаентность пациентов к проводимой терапии (93,7%) и улучшение показателей функционального статуса. Так, дистанция в тесте шестиминутной ходьбы увеличилась на 20,8±42,6 м в группе исследования по сравнению с 1,2±65,5 м в группе контроля. Однако полученные данные не были статистически достоверны, что возможно вызвано малой выборкой больных — 43 пациента.
В современной онкологии преобладает тенденция назначения высокобелкового питания. Метаанализ C.E. Orsso и соавт., который включил данные 3701 больного, показал, что подобная нутритивная поддержка (10–15 г белка на порцию) положительно влияет на функциональный статус, стабилизирует мышечную массу, повышает мышечную силу, выживаемость и снижает частоту повторных госпитализаций. При этом она обладает хорошим профилем безопасности и переносимости. В 66% исследований, вошедших в метаанализ, авторы зафиксировали высокую приверженность лечению. Примечательно, что сывороточный белок и казеин оказали более выраженное влияние на синтез белка, чем растительные протеины [54]. Принимая во внимание состав белка в смеси «Ресурс® Протеин» (казеин и сывороточный белок), её можно включать в лечебную диету онкологических больных для улучшения функционального статуса, качества жизни и результатов противоопухолевого лечения.
Важно иметь ввиду, что после завершения лечения пациенты часто возвращаются к своим пищевым привычкам. Как показали H. Kaur и соавт., в рационе американских онкологических больных, завершивших лечение, был выявлен клинически значимый дефицит фруктов, овощей, молочных продуктов и белка, а также повышенное содержание очищенных зерновых. В то же время эти пациенты, по сравнению с общей популяцией, потребляли меньше соли, насыщенных жиров и сахара (в том числе содержащегося в сладких напитках). Менее здоровый рацион питания наблюдали у более молодых пациентов (младше 65 лет), с давностью заболевания менее 5 лет, у больных с ожирением, с низким уровнем образования и проживающих в неблагополучных районах. Различия в диете не зависели от типа опухоли или вида лечения. Главным определяющим фактором выступали пищевые привычки и влияние среды обитания [55]. Таким пациентам, которые завершили противоопухолевое лечение и испытывают трудности с обеспечением себя необходимой и достаточной нормой нутриентов, длительное назначение высокобелковой питательной смеси позволит улучшить состояние здоровья, повысить качество жизни и выживаемость.
БЕЛКОВАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У БОЛЬНЫХ В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ
Известно, что метаболический ответ на системное повреждение универсален. Он характеризуется ускорением катаболических процессов, развитием инсулинорезистентности и атрофией мышечной ткани. Согласно данным метаанализа B. Fazzini и соавт. (52 исследования, 3251 пациент в критическом состоянии), в первую неделю пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) пациенты теряют до 2% скелетной мускулатуры ежедневно. Это состояние привело к развитию мышечной слабости у 48% пациентов, увеличило длительность искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и повысило смертность [56]. Очевидно, что обеспечение больного в критическом состоянии достаточным количеством белка приобретает особое значение. Однако в условиях критического состояния и в ближайшем восстановительном периоде достичь целевых значений потребления белка крайне тяжело. Например, у ожоговых больных дефицит поступления белка сохраняется в течение месяца пребывания в ОРИТ [57]. Даже к моменту выписки адекватное обеспечение калориями и белком на практике остаётся почти недостижимым. Как показали Z. Rosseel и соавт., которые проанализировали 8 исследований с наблюдением за 217 пациентами, переведёнными из ОРИТ в профильные стационары, их энергообеспечение не превышало 79,1%, а потребление белка составило 78,13% расчётных величин [58].
Согласно клиническим рекомендациям ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, Европейское общество клинического питания и метаболизма), для пациентов в критическом состоянии оптимальное поступление белка должно составлять 1,3 г/(кг×сут). Многочисленные исследования подтверждают эффективность и безопасность такой дозы. Поступление меньшего или большего количества белка в сутки у общей популяции пациентов ОРИТ исследователи связывают с худшими результатами лечения [59, 60]. Повышение количества белка до 2 г/(кг×сут) в составе высококалорийных высокобелковых смесей привело к ухудшению переносимости энтерального питания во время пребывания в отделении интенсивной терапии, снижению качества жизни и функционального статуса в течение 180 дней от момента госпитализации в ОРИТ, без улучшения показателей выживаемости [61]. Исследователи наблюдали похожие результаты и у больных с ожирением [62].
Эксперты ESPEN советуют постепенно увеличивать калорийность искусственного питания до 25 ккал/кг в сут. Они рекомендуют начинать с 70% энергетических потребностей пациента и повышать калорийность до целевых значений в течение 72 ч [59]. Раннее начало изокалорийного питания (в первые 24 ч) не приносит ощутимой пользы. Наоборот, стартовая низкокалорийная нутритивная поддержка с постепенным увеличением её энергетической ценности сокращает сроки пребывания в ОРИТ и сопровождается меньшим количеством осложнений [63]. Кроме того, вынужденная гипергидратация ограничивает объём нутритивной поддержки, лимитируя поступление белка [57]. В этом контексте интерес исследователей к назначению высокобелковой нутритивной поддержки при стандартной калорийности растёт. Так, A.R.H. van Zanten и соавт. назначали высокобелковую изокалорийную смесь пациентам с индексом массы тела больше 25 кг/м2. Пациенты исследуемой группы со 2-го по 10-й день пребывания в ОРИТ получали 1,49 г/(кг×сут) белка, в то время как пациенты контрольной группы получали только 0,76 г/(кг×сут) при сопоставимой калорийности. Авторы не отметили различий в количестве диспепсических и других нежелательных явлений. Общая концентрация аминокислот на 5-й день наблюдения в исследуемой группе была выше и трактовалась авторами как показатель более высокой утилизации белка, достигнутой без увеличения калорийности нутритивной поддержки. Кроме того, обогащённое белком искусственное питание не вызывало развития кишечной недостаточности, что особенно важно для пациентов в критическом состоянии [64]. Тактика обеспечения достаточного количества белка при соблюдении изокалорийности снижает 28- и 90-дневную летальность, не увеличивает частоту развития острой почечной недостаточности и не влияет на клинический прогноз при проведении длительной ИВЛ [65–67]. При этом смеси на основе гидролизатов сывороточного белка пациенты переносят намного лучше, что способствует улучшению результатов лечения [68–70].
Таким образом, обеспечение пациента в ОРИТ суточным поступлением белка в соответствии с рекомендациями ESPEN при соблюдении гипокалорийности в начале искусственного питания с постепенным достижением изокалорийности, по данным последних исследований, улучшает результаты лечения. Современные энтеральные смеси позволяют выстроить оптимальный режим нутритивной поддержки. Например, для пациента с идеальной массой тела 70 кг, суточная потребность в белке которого составляет 91 г белка или 1,3г/(кг×сут), необходимо 968 мл энтерального питания «Ресурс® Протеин» (содержание белка — 9,4 г, энергетическая ценность — 125 ккал в 100 мл). Такой объём эквивалентен 1210 ккал (17,3 ккал/(кг×сут)) и обеспечивает 69,1% энергетических потребностей пациента на старте нутритивной поддержки. Помимо этого, пациент получает почти 2 г омега-3 жирных кислот (1,5% общей калорийности), что соответствует норме потребления для взрослых в Российской Федерации [4]. Следовательно, назначение смеси «Ресурс® Протеин» позволяет обеспечить пациента макро- и микронутриентами в соответствии с современными клиническими рекомендациями.
На сегодняшний день новым направлением стало сочетание ранней реабилитации с нутритивной поддержкой, обогащённой белком при относительно низкой калорийности. Подобный подход в своём исследовании применили K. Nakamura и соавт. Пациенты в исследуемой и контрольной группах получали сывороточный белок в дозе 1,5 г/(кг×сут) и 0,8 г/(кг×сут) соответственно. При этом калорийность рациона в группах не отличалась и составляла 20 ккал/(кг×сут). Кроме этого, всем 117 пациентам со 2-го дня госпитализации в ОРИТ назначали программу ранней реабилитации, включавшую лечебную физкультуру и миостимуляцию. Программа ранней реабилитации продолжалась после выписки из ОРИТ и заняла в общей сложности 10 дней. Высокобелковое питание минимизировало потерю объёма четырёхглавой мышцы бедра, а также ассоциировалось с менее выраженными уровнями воспаления и иммуносупрессии [71]. Другие исследователи получили похожие результаты [72–74].
Достаточное обеспечение белком в период ранней реабилитации положительно влияет на отдалённые результаты лечения. Так, J.R.A. De Azevedo и соавт. изучали влияние программ реабилитации в раннем послеоперационном периоде на реконвалесценцию. Больные ОРИТ на ИВЛ (исследуемая группа) получали высокобелковую изокалорийную энтеральную смесь в сочетании с физической нагрузкой. Норма сывороточного белка в назначенном питании составляла 1,48 г/(кг×сут). Контрольной группе пациентов назначили стандартное энтеральное питание (1,19 г/(кг×сут)) без дополнительной физической активности. Авторы оценивали функциональное состояние пациентов при выписке из ОРИТ и спустя 3 и 6 мес. Вторичными конечными точками служили летальность в ОРИТ, госпитальная летальность и летальность в течение полугода. Результаты показали, что функциональный статус в исследуемой группе был выше уже при выписке из ОРИТ, и это различие сохранялось на протяжении 6 мес наблюдения. Все три показателя летальности также оказались лучше в группе, получавшей высокобелковое питание и физическую нагрузку [75].
Таким образом, на сегодняшний день высокобелковое изокалорийное питание представляет собой перспективную опцию для использования в реальной клинической практике ОРИТ, поскольку позволяет снизить смертность, сохранить объём мышечной массы и функциональный статус пациентов после завершения лечения.
ВЫСОКОБЕЛКОВЫЕ ИЗОКАЛОРИЙНЫЕ ЭНТЕРАЛЬНЫЕ СМЕСИ
В настоящее время среди доступных коммерческих изокалорийных смесей с высоким содержанием белка наибольший интерес представляют продукты, основным белковым компонентом которых служит животный белок. Наличие в их составе сывороточного белка исследователи рассматривают как важное преимущество перед аналогами. Сывороточный белок, или белок молочной сыворотки, представляет собой побочный продукт коагуляции казеина. На долю сывороточных белков приходится 20% белков коровьего молока, а остальные 80% составляет казеин. Основными компонентами сывороточных белков являются β-лактоглобулин (50–55%), α-лактальбумин (20–25%), иммуноглобулины (10–15%), бычий сывороточный альбумин (5–10%), лактоферрин, лактопероксидаза, гликомакропептид, протеозопептон и остеопонтин. Эти вещества обладают иммуномодулирующими, кардио- и нейропротективными свойствами, проявляют самостоятельную и атрибутивную противоопухолевую и антимикробную активность. Сывороточный белок богат аминокислотами с разветвлённой цепью, такими как лейцин, изолейцин и валин. Лейцин, концентрация которого в сыворотке на 50–75% выше, чем в других источниках протеина, играет ключевую роль в синтезе мышечного белка и минимизирует его распад. Цистеин, предшественник глутатиона, помогает снижать окислительный стресс и регулировать клеточные процессы. С учётом этих свойств, исследователи рассматривают сывороточный белок как полноценный нутриент для питания ослабленных пациентов, а обогащённые им продукты — как функциональное питание, которое потенциально может предотвращать или минимизировать проявления различных неинфекционных заболеваний. Регулярное потребление сывороточного белка благотворно влияет на больных с метаболическим синдромом. В частности, его длительный приём (более 40 г/сут в течение не менее 12 недель) достоверно снижает концентрацию триглицеридов, липопротеинов низкой плотности и общего холестерина в сыворотке крови. Этот эффект объясняют влиянием бета-лактоглобулина и сфинголипидов, которые снижают ассимиляцию жиров в кишечнике, а также высокой концентрацией в сывороточном белке разветвлённых аминокислот, подавляющих экспрессию генов, участвующих в метаболизме холестерина, синтезе липидов и транспорте жирных кислот [76]. Экспериментальные работы показали, что использование сывороточного белка увеличивает число лимфоцитов в пейеровых бляшках и уровень иммуноглобулина А в кишечнике. В комплексе с омега-3 жирными кислотами он подавляет синтез провоспалительных цитокинов и антиоксидантов и ингибирует аутофагию. Эти эффекты способствуют уменьшению воспаления, повышению местного иммунитета и нормализации микрофлоры кишечника [77, 78].
Интересно, что, вероятно, добавление сывороточного белка в рацион не влияет непосредственно ни на модуляцию воспаления, ни на окислительный стресс [79]. Предполагают, что его эффективность обусловлена высокой степенью ассимиляции и повышением синтеза эндогенных протеинов, в том числе за счёт влияния на ландшафт кишечной микрофлоры и снижения риска повреждения слизистой оболочки [80]. Лабораторные исследования на животных моделях подтверждают эту гипотезу. Например, показано, что при развитии лёгочной инфекции, ассоциированной с Pseudomonas aeruginosa, нутритивная поддержка на основе сывороточного белка ослабляет мышечный протеолиз [81], тем самым уменьшая явления мышечной дистрофии.
В зависимости от методов обработки и состава конечного продукта, в настоящее время сывороточные белки коммерчески доступны в трёх различных формах: концентрат, изолят и гидролизат сывороточного белка. Концентрат сывороточного белка содержит 34–89% протеинов, а также жиры и лактозу, что повышает его калорийность. Изолят сывороточного белка содержит не менее 90% протеинов и минимальное количество лактозы и жиров. Он идеально подходит для людей с лактазной недостаточностью. Гидролизаты сывороточного белка, которые производят из концентратов или изолятов, состоят из пептидов и аминокислот, что улучшает их усвоение в желудочно-кишечном тракте. Благодаря отсутствию лактозы и жиров, высокому качеству и повышенной концентрации белков, изолят сывороточного белка подходит для обширной популяции пациентов. Многочисленные исследования подтверждают наличие важных клинических эффектов его использования:
- улучшение нутритивного статуса и иммунной функции у пациентов, проходящих противоопухолевую химиотерапию [82], в том числе у пациентов пожилого возраста [83];
- более полное и быстрое удовлетворение потребностей в белке, а также улучшение функционального статуса у пожилых людей [84];
- улучшение когнитивных способностей на ранних стадиях деменции [85], в том числе у пациентов с сахарным диабетом [86].
При этом назначение сывороточного белка в качестве протеиновой добавки пожилым и старым людям не снижает эффективность леводопы при болезни Паркинсона [87]. У пациентов в критическом состоянии смеси на основе сывороточного белка хорошо усваиваются [70, 88]. Помимо влияния на нутритивный статус, они также положительно воздействуют на скорость восстановления неврологических функций и нормализацию концентрации маркёров воспаления после ишемического инсульта [89].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблема белковой недостаточности является одной из главных при построении рациона питания для уязвимых групп пациентов. В то же время, энтеральное питание давно служит важным компонентом комплексной терапии для пожилых пациентов, онкологических больных и пациентов ОРИТ, способным влиять на результаты лечения и качество жизни. Современные энтеральные смеси с высоким содержанием животного белка, низкой калорийностью и наличием в составе омега-3 жирных кислот позволяют оптимизировать белковое обеспечение пациентов, находящихся в группах риска. Включение в план нутритивной поддержки специализированных продуктов обеспечивает пациентов полноценным белком, при этом соответствуя нормам по доставке энергии и микронутриентов. В то же время, для подтверждения этих выводов необходимы дополнительные масштабные рандомизированные клинические исследования.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вклад авторов. О.А. Обухова — идея, концепция рукописи, сбор и анализ литературных источников, написание текста и редактирование статьи; И.А. Курмуков — сбор и анализ литературных источников, подготовка и написание текста статьи; А.А. Рык — сбор и анализ литературных источников, редактирование текста статьи. Авторы одобрили рукопись (версию для публикации), а также согласились нести ответственность за все аспекты настоящей работы, гарантируют надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой её части.
Источники финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при подготовке публикации.
Раскрытие интересов. О.А. Обухова — лектор компании «Нестле», И.А. Курмуков, А.А. Рык — конфликта интересов нет.
Заявление об оригинальности. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).
Доступ к данным. Авторы сообщают, что все данные представлены в статье.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.
Рассмотрение и рецензирование. Рукопись направлена в редакцию журнала в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два внешних рецензента журнала.
ADDITIONAL INFORMATION
Author contributions: O.A. Obukhova: conceptualization, investigation, writing—original draft, writing—review & editing; I.A. Kurmukov: investigation, writing—original draft; A.A. Ryk: investigation, writing—review & editing. All the authors approved the version of the manuscript to be published and agreed to be accountable for all aspects of the work, ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.
Funding sources: The authors declare no external funding was received for the article preparation and publication.
Disclosure of interests: O.A. Obukhova reports being a lecturer for Nestlé, I.A. Kurmukov and A.A. Ryk declare no conflicts of interest.
Statement of originality: No previously obtained or published material (text, images, or data) was used in this work.
Data availability statement: All data obtained in this study are available in the article.
Generative AI: No generative artificial intelligence technologies were used to prepare this article.
Provenance and peer-review: This paper was submitted unsolicited and reviewed following the standard procedure. The peer review process involved two external reviewers.
About the authors
Olga A. Obukhova
National Medical Research Center of Oncology named after N.N. Blokhin
Author for correspondence.
Email: obukhova0404@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-0197-7721
SPIN-code: 6876-7701
MD, PhD, Cand. Sci. (Medicine)
Russian Federation, 24 Kashirskoe hwy, Moscow, 115522Ildar A. Kurmukov
National Medical Research Center of Oncology named after N.N. Blokhin
Email: kurmukovia@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-8463-2600
SPIN-code: 3692-5202
MD, Cand. Sci. (Medicine)
Russian Federation, MoscowAlla A. Ryk
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency
Email: alla-ryk@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-3968-3713
SPIN-code: 3984-7800
MD, Cand. Sci. (Medicine)
Russian Federation, MoscowReferences
- Obukhova OA, Kurmukov IA, Kashiya ShR. Components of parenteral nutrition: amino acids. Difficult patient. 2010:8(10):22-27. EDN: OGBONL
- Trumbo P, Schlicker S, Yates AA, Poos M. Dietary reference intakes for energy, carbohydrate, fiber, fat, fatty acids, cholesterol, protein and amino acids. J. Am. Diet. Assoc. 2002;102(11):1621-30. doi: 10.1016/s0002-8223(02)90346-9
- Spaaij CJK, Pijls LTJ. New dietary reference intakes in the Netherlands for energy, proteins, fats and digestible carbohydrates. Eur. J. Clin. Nutr. 2004;58(1):191-4. doi: 10.1038/sj.ejcn.1601788
- Tutelyan VA, Nikityuk DB, Aksenov IV, et al. Methodical recommendations MP 2.3.1.0253-21 «Norms of physiological needs for energy and nutrients for various groups of the population of the Russian Federation» (approved by the Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing on July 22, 2021). [Electronic resource] (In Russ.) Available from: https://upp.alregn.ru/pharmaceutical-industry/docs/inaya-poleznaya-informatsiya/MP%202.3.1.0253-21.pdf EDN: MAYTEB
- Gotina AD, Ivannikova EV, Eruslanova KA, et al. Assessment of nutrition and nutritional status of centenarians (based on the materials of the study “Centenarian Citizen” in Moscow). Clinical nutrition and metabolism. 2023:4(2);54–65. doi: 10.17816/clinutr383783 EDN: VBVBHC
- Martyushev-Poklad AV, Yankevich DS, Petrova MV, Savitskaya NG. New approaches to optimizing nutrition of older people Clinical nutrition and metabolism. 2022:3(2):91–104. doi: 10.17816/clinutr108594 EDN: ZLPHGN
- Fernandez SSM, Cipolli GC, Merchant RA, et al. Global prevalence of anorexia of aging: a systematic review and meta-analysis. Maturitas. 2025;198:108603. doi: 10.1016/j.maturitas.2025.108603
- Rudzińska A, Piotrowicz K, Perera I, et al. Poor appetite in frail older persons — a systematic review. Nutrients. 2023;15(13):2966. doi: 10.3390/nu15132966 EDN: ZCVZPX
- Maier A, Riedel-Heller SG, Pabst A, Luppa M. Risk factors and protective factors of depression in older people 65+. A systematic review. PLoS One. 2021;16(5):e0251326. doi: 10.1371/journal.pone.0251326 EDN: XZJQGQ
- Magnuson A, Sattar S, Nightingale G, et al. A practical guide to geriatric syndromes in older adults with cancer: a focus on falls, cognition, polypharmacy, and depression. Am. Soc. Clin. Oncol. Educ. Book. 2019:39:e96-e109. doi: 10.1200/EDBK_237641
- Kocyigit SE, Bulut EA, Aydin AE, et al. The relationship between cognitive frailty, physical frailty and malnutrition in Turkish older adults. Nutrition. 2024;126:112504. doi: 10.1016/j.nut.2024.112504 EDN: ZHPXAX
- Coelho-Junior HJ, Marzetti E, Picca A, et al. Protein intake and frailty: a matter of quantity, quality, and timing. Nutrients. 2020;12(10):2915. doi: 10.3390/nu12102915 EDN: REKEAB
- Liao CD, Lee PH, Hsiao DJ, et al. Effects of protein supplementation combined with exercise intervention on frailty indices, body composition, and physical function in frail older adults. Nutrients. 2018;10(12):1916. doi: 10.3390/nu10121916
- Ying L, Zhang Q, Yang Y-M, Zhou J-Y. A combination of serum biomarkers in elderly patients with sarcopenia: a cross-sectional observational study. Int. J. Endocrinol. 2022:2022:4026940. doi: 10.1155/2022/4026940 EDN: FNXMIA
- Tseng LY, Liang CK, Peng LN, et al. The distinct impacts of sarcopenic and dynapenic obesity on mortality in middle-aged and older adults based on different adiposity metrics: results from I-Lan longitudinal aging study. Clin. Nutr. 2024;43(8):1892-1899. doi: 10.1016/j.clnu.2024.06.035 EDN: TUBMSU
- Liu B, Liu R, Jin Y, et al. Association between possible sarcopenia, all-cause mortality, and adverse health outcomes in community-dwelling older adults in China. Sci. Rep. 2024;14(1):25913. doi: 10.1038/s41598-024-77725-8 EDN: XWSSSK
- Safonova YuA, Zotkin EG. Frequency of sarcopenia in older age groups: assessment of diagnostic criteria. Scientific and practical rheumatology. 2020;58(2):147-153. doi: 10.14412/1995-4484-2020-147-153 EDN: SPYYUX
- Obukhova OA, Kurmukov IA, Ryk AA. The impact of nutritional support on nutritional status, quality of life, and survival in cancer patients receiving systemic antitumor drug treatment. Clinical nutrition and metabolism. 2022:3(1):50–61. doi: 10.17816/clinutr104771 EDN: VJKFTI
- Gao Q, Mei F, Shang Y, et al. Global prevalence of sarcopenic obesity in older adults: A systematic review and meta-analysis. Clin. Nutr. 2021;40(7):4633-4641. doi: 10.1016/j.clnu.2021.06.009 EDN: WQCJLY
- Verlaan S, Aspray TJ, Bauer JM, et al. Nutritional status, body composition, and quality of life in community-dwelling sarcopenic and non-sarcopenic older adults: a case-control study. Clin. Nutr. 2017;36(1):267-274. doi: 10.1016/j.clnu.2015.11.013
- Amini N, Devriendt A, Lapauw L, et al. Estimating protein intake in sarcopenic older adults: combining food diaries and weighed powders versus 24-hour urine collections. J. Nutr. Health Aging. 2025;29(3):100474. doi: 10.1016/j.jnha.2024.100474 EDN: ZFXIUV
- Niskanen RT, Reinders I, Wijnhoven HAH, et al. The feasibility of a 6-month dietary intervention aiming to increase protein intake among community-dwelling older adults with low habitual protein intake: A secondary analysis of the PROMISS randomised controlled trial. J. Hum. Nutr. Diet. 2023;36(5):1811-1820. doi: 10.1111/jhn.13197 EDN: NZNDBC
- Unterberger S, Aschauer R, Zöhrer PA, et al. Effects of an increased habitual dietary protein intake followed by resistance training on fitness, muscle quality and body composition of seniors: a randomised controlled trial. Clin. Nutr. 2022;41(5):1034-1045. doi: 10.1016/j.clnu.2022.02.017 EDN: IUQSJA
- Cheah KJ, Cheah LJ. Benefits and side effects of protein supplementation and exercise in sarcopenic obesity: a scoping review. Nutr. J. 2023;22(1):52. doi: 10.1186/s12937-023-00880-7 EDN: WPJRGT
- Carroll CC, Campbell NW, Lewis RL, et al. Greater protein intake emphasizing lean beef does not affect resistance training-induced adaptations in skeletal muscle and tendon of older women: a randomized controlled feeding trial. J. Nutr. 2024;154(6):1803-1814. doi: 10.1016/j.tjnut.2024.04.001 EDN: FKOOPA
- López-Daza D, López-Ucrós N, Posada-Álvarez C, Savino-Lloreda P. Effect of oral supplementation with whey protein on muscle mass in adults with type 2 diabetes mellitus: a systematic review of randomized controlled trials. Endocrinol. Diabetes Nutr. (Engl Ed). 2024;71(7):308-316. doi: 10.1016/j.endien.2024.07.002 EDN: RZZNEA
- Nilsson MI, Mikhail A, Lan L, et al. A five-ingredient nutritional supplement and home-based resistance exercise improve lean mass and strength in free-living elderly. Nutrients. 2020;12(8):2391. doi: 10.3390/nu12082391 EDN: FOOVTV
- Thormann M, Meyer HJ, Wienke A, et al. The prevalence of sarcopenia in patients with solid tumors differs across regions: a systematic review. Nutr. Cancer. 2025;77(1):102-114. doi: 10.1080/01635581.2024.2401648
- Obukhova OA, Kurmukov IA, Yunaev GS. Nutritional support as part of complex therapy of palliative cancer patients (review). Clinical nutrition and metabolism. 2024:5(3):134–144. doi: 10.17816/clinutr679021 EDN: EMLTSK
- Mercadante S, Bellavia GM, Fusco F, et al. Malnutrition is associated with fatigue and anxiety in advanced cancer patients admitted to home palliative care. Am. J. Hosp. Palliat. Care. 2024:10499091241278924. doi: 10.1177/10499091241278924 EDN: KLOWMG
- Trestini I, Belluomini L, Dodi A, et al. Body composition derangements in lung cancer patients treated with first-line pembrolizumab: a multicentre observational study. J. Cachexia Sarcopenia Muscle. 2024;15(6):2349-2360. doi: 10.1002/jcsm.13568 EDN: WVJSBF
- Koh JH, Lim CYJ, Tan LTP, et al. Prevalence and association of sarcopenia with mortality in patients with head and neck cancer: a systematic review and meta-analysis. Ann. Surg. Oncol. 2024;31(9):6049-6064. doi: 10.1245/s10434-024-15510-7 EDN: AFZYFY
- Keshavjee S, Mckechnie T, Shi V, et al. The impact of sarcopenia on postoperative outcomes in colorectal cancer surgery: an updated systematic review and meta-analysis. Am. Surg. 2025;91(5):887-900. doi: 10.1177/00031348251329748
- Tian L, Wang Y, Che G. Association of preoperative sarcopenia with the risk of anastomotic leakage in surgical esophageal cancer patients: a meta-analysis. Nutr. Cancer. 2025;77(6):640-647. doi: 10.1080/01635581.2025.2479878
- Liu C, Li Y, Xu Y, Hou H. The impact of preoperative skeletal muscle mass index-defined sarcopenia on postoperative complications and survival in gastric cancer: an updated meta-analysis. Eur. J. Surg. Oncol. 2025;51(3):109569. doi: 10.1016/j.ejso.2024.109569 EDN: LJZREW
- Wang F, Zhen H, Yu K, Liu P. The prognostic value of sarcopenia in clinical outcomes in cervical cancer: a systematic review and meta-analysis. J. Cachexia Sarcopenia Muscle. 2025;16(1):e13674. doi: 10.1002/jcsm.13674 EDN: HBGGPX
- Hu X, Liao DW, Yang ZQ, et al. Sarcopenia predicts prognosis of patients with renal cell carcinoma: A systematic review and meta-analysis. Int. Braz. J. Urol. 2020;46(5):705-715. doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2019.0636 EDN: MEPJLR
- Su Y, Wu Y, Li C, et al. Sarcopenia among treated cancer patients before and after neoadjuvant chemotherapy: a systematic review and meta-analysis of high-quality studies. Clin. Transl. Oncol. 2024;26(8):1844-1855. doi: 10.1007/s12094-024-03421-8 EDN: RQEZOF
- Sato R, Tokunaga M, Mizusawa J, et al. Clinical impact of skeletal muscle mass change during the neoadjuvant chemotherapy period in patients with gastric cancer: an ancillary study of JCOG1002. World J. Surg. 2024;48(1):163-174. doi: 10.1002/wjs.12041 EDN: SYKJXV
- Yamaoka Y, Fujitani K, Tsujinaka T, et al. Skeletal muscle loss after total gastrectomy, exacerbated by adjuvant chemotherapy. Gastric Cancer. 2015;18(2):382-9. doi: 10.1007/s10120-014-0365-z EDN: WCWXOT
- Hasegawa Y, Ijichi H, Saito K, et al. Protein intake after the initiation of chemotherapy is an independent prognostic factor for overall survival in patients with unresectable pancreatic cancer: A prospective cohort study. Clin. Nutr. 2021;40(7):4792-4798. doi: 10.1016/j.clnu.2021.06.011 EDN: PBKWNU
- Obukhova OA, Kurmukov IA, Semenova AA, et al. Nutritional deficiency in patients with newly diagnosed diffuse large B-cell lymphoma. Prevalence and approaches to correction. Oncohematology. 2024;19(3):233-42. doi: 10.17650/1818-8346-2024-19-3-233-242 EDN: RUTLZP
- Okada G, Matsumoto Y, Habu D, et al. Relationship between preoperative nitrogen balance and energy and protein intake in patients with esophageal cancer. Nutr. Health. 2023:2601060231176878. doi: 10.1177/02601060231176878 EDN: XNTELT
- Obukhova OA, Shalenkov VA. Results of the rehabilitation program for cancer patients radically operated for gastric cancer in the early postoperative period. In the book: VII St. Petersburg International Oncology Forum “White Nights 2021”. Forum Abstracts. Proceedings of the VII St. Petersburg International Oncology Forum. St. Petersburg: ANSMO Oncology issues, 2021. P. 339. (In Russ.) EDN: FXDHRL
- Kipouros M, Vamvakari K, Kalafati IP, et al. The level of adherence to the ESPEN guidelines for energy and protein intake prospectively influences weight loss and nutritional status in patients with cancer. Nutrients. 2023;15(19):4232. doi: 10.3390/nu15194232 EDN: CVBSYA
- Wang CJ, Suh YS, Lee HJ, et al. Postoperative quality of life after gastrectomy in gastric cancer patients: a prospective longitudinal observation study. Ann. Surg. Treat. Res. 2022;103(1):19-31. doi: 10.4174/astr.2022.103.1.19 EDN: TBTLSM
- Liu P, Wang Z. Postoperative anxiety and depression in surgical gastric cancer patients: their longitudinal change, risk factors, and correlation with survival. Medicine (Baltimore). 2022;101(11):e28765. doi: 10.1097/MD.0000000000028765 EDN: AEEGWA
- Burstad K, Erickson A, Gholizadeh E, et al. Evaluation of dietary protein and amino acid requirements: a systematic review. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2024. doi: 10.23970/AHRQEPCSRPROTEINAMINO
- Ford KL, Arends J, Atherton PJ, et al. The importance of protein sources to support muscle anabolism in cancer: an expert group opinion. Clin. Nutr. 2022;41(1):192-201. doi: 10.1016/j.clnu.2021.11.032 EDN: FBKIVX
- Obukhova OA, Kurmukov IA, Egofarov NM, et al. Impact of perioperative high-protein nutritional support on postoperative outcomes in the treatment of primary lung cancer: Russian prospective multicenter comparative study (NUTRILUNC-study). Clinical nutrition and metabolism. 2023;4(3):150-164. doi: 10.17816/ clinutr625481 EDN: OEPTCY
- Li C, Zhang S, Liu Y, et al. Effects of nutritional interventions on cancer patients receiving neoadjuvant chemoradiotherapy: a meta-analysis of randomized controlled trials. Support Care Cancer. 2024;32(9):583. doi: 10.1007/s00520-024-08780-0 EDN: SDLWZD
- Rabie ASI, Alhomsi T, AbouKhatwa MM, et al. Impact of whey protein supplementation as adjuvant therapy on malnourished cancer patients: systematic review and meta-analysis. Discov. Food. 2024;4:118. doi: 10.1007/s44187-024-00171-y EDN: LAJZKE
- Gillis C, Loiselle SE, Fiore JF Jr, et al. Prehabilitation with whey protein supplementation on perioperative functional exercise capacity in patients undergoing colorectal resection for cancer: a pilot double-blinded randomized placebo-controlled trial. J. Acad. Nutr. Diet. 2016;116(5):802-12. doi: 10.1016/j.jand.2015.06.007
- Orsso CE, Caretero A, Poltronieri TS, et al. Effects of high-protein supplementation during cancer therapy: a systematic review and meta-analysis. Am. J. Clin. Nutr. 2024;120(6):1311-1324. doi: 10.1016/j.ajcnut.2024.08.016 EDN: XPQHKY
- Kaur H, Pisu M, Pekmezi DW, et al. How healthy are the diets of cancer survivors? Characteristics of those most at risk and opportunities for improvement. J. Natl. Compr. Canc. Netw. 2025;23(6):e257012. doi: 10.6004/jnccn.2025.7012
- Fazzini B, Märkl T, Costas C, et al. The rate and assessment of muscle wasting during critical illness: a systematic review and meta-analysis. Crit. Care. 2023;27(1):2. doi: 10.1186/s13054-022-04253-0 EDN: SBGKLB
- Strukov EYu, Klimov AG, Timofeev AB, Obukhova OA. Nutritional support quality assessment in burn patients. Clinical nutrition and metabolism. 2024;5(3):105–113. doi: 10.17816/clinutr643464 EDN: RIVQXL
- Rosseel Z, Cortoos PJ, Leemans L, et al. Energy and protein nutrition adequacy in general wards among intensive care unit survivors: a systematic review and meta-analysis. JPEN. 2025;49(1):18-32. doi: 10.1002/jpen.2699 EDN: QVAIHF
- Singer P, Blaser AR, Berger MM, et al. ESPEN practical and partially revised guideline: Clinical nutrition in the intensive care unit. Clin. Nutr. 2023;42(9):1671-1689. doi: 10.1016/j.clnu.2023.07.011 EDN: TQSVZO
- Lin J, Chen W, Ye X, et al. Trajectories of protein intake and 28-day mortality in critically ill patients: A secondary analysis of a cluster-randomized controlled trial. Clin. Nutr. 2022;41(8):1644-1650. doi: 10.1016/j.clnu.2022.05.017 EDN: ECKFMC
- Bels JLM, Thiessen S, van Gassel RJJ, et al. Effect of high versus standard protein provision on functional recovery in people with critical illness (PRECISe): an investigator-initiated, double-blinded, multicentre, parallel-group, randomised controlled trial in Belgium and the Netherlands. Lancet. 2024;404(10453):659-669. doi: 10.1016/S0140-6736(24)01304-7 EDN: PCYDTW
- Tweel LE, Compher C, Bear DE, et al. A comparison of high and usual protein dosing in critically ill patients with obesity: a post hoc analysis of an international, pragmatic, single-blinded, randomized clinical trial. Crit. Care Med. 2024;52(4):586-595. doi: 10.1097/CCM.0000000000006117 EDN: XSUQXD
- Reignier J, Plantefeve G, Mira J-P, et al. Low versus standard calorie and protein feeding in ventilated adults with shock: a randomised, controlled, multicentre, open-label, parallel-group trial (NUTRIREA-3). Lancet Respir. Med. 2023;11(7):602-612. doi: 10.1016/S2213-2600(23)00092-9 EDN: HYPEMH
- Van Zanten ARH, Petit L, De Waele J, et al. Very high intact-protein formula successfully provides protein intake according to nutritional recommendations in overweight critically ill patients: a double-blind randomized trial. Crit. Care. 2018;22(1):156. doi: 10.1186/s13054-018-2070-5 EDN: ZZRPSP
- Suzuki G, Ichibayashi R, Yamamoto S, et al. Effect of high-protein nutrition in critically ill patients: A retrospective cohort study. Clin. Nutr. ESPEN. 2020:111-117. doi: 10.1016/j.clnesp.2020.05.022 EDN: YPSUJM
- Stoppe C, Patel JJ, Zarbock A, et al. The impact of higher protein dosing on outcomes in critically ill patients with acute kidney injury: a post hoc analysis of the EFFORT protein trial. Crit. Care. 2023;27(1):399. doi: 10.1186/s13054-023-04663-8 EDN: ZKPCOH
- Zhang Q, Zhou J, Zhu D, Zhou S. Evaluation of the effect of high protein supply on diaphragm atrophy in critically ill patients receiving prolonged mechanical ventilation. Nutr. Clin. Pract. 2022;37(2):402-412. doi: 10.1002/ncp.10672 EDN: NONYLC
- Sumritpradit P, Shantavasinkul PC, Ungpinitpong W, et al. Effect of high-protein peptide-based formula compared with isocaloric isonitrogenous polymeric formula in critically ill surgical patient. World J. Gastrointest Surg. 2024;16(6):1765-1774. doi: 10.4240/wjgs.v16.i6.1765 EDN: BRDMSM
- Curry AS, Chadda S, Danel A, Nguyen DL. Early introduction of a semi-elemental formula may be cost saving compared to a polymeric formula among critically ill patients requiring enteral nutrition: a cohort cost-consequence model. Clinicoecon. Outcomes Res. 2018:10:293-300. doi: 10.2147/CEOR.S155312
- Tedeschi-Jockers F, Reinhold S, Hollinger A, et al. A new high protein-to-energy enteral formula with a whey protein hydrolysate to achieve protein targets in critically ill patients: a prospective observational tolerability study. Eur. J. Clin. Nutr. 2022;76(3):419-427. doi: 10.1038/s41430-021-00956-9 EDN: AFWMKN
- Nakamura K, Nakano H, Naraba H, et al. High protein versus medium protein delivery under equal total energy delivery in critical care: A randomized controlled trial. Clin. Nutr. 2021;40(3):796-803. doi: 10.1016/j.clnu.2020.07.036 EDN: JKRTVS
- Verceles AC, Serra M, Davis D, et al. Combining exercise, protein supplementation and electric stimulation to mitigate muscle wasting and improve outcomes for survivors of critical illness-The ExPrES study. Heart Lung. 2023:58:229-235. doi: 10.1016/j.hrtlng.2022.11.013 EDN: AKVMNQ
- Badjatia N, Sanchez S, Judd G, et al. Neuromuscular electrical stimulation and high-protein supplementation after subarachnoid hemorrhage: a single-center phase 2 randomized clinical trial. NeuroCrit. Care. 2021;35(1):46-55. doi: 10.1007/s12028-020-01138-4 EDN: KBBRGB
- Matsushima S, Yoshida M, Yokoyama H, et al. Effects on physical performance of high protein intake for critically ill adult patients admitted to the intensive care unit: A retrospective propensity-matched analysis. Nutrition. 2021;91-92:111407. doi: 10.1016/j.nut.2021.111407 EDN: UHRHZS
- De Azevedo JRA, Lima HCM, Frota PHDB, et al. High-protein intake and early exercise in adult intensive care patients: a prospective, randomized controlled trial to evaluate the impact on functional outcomes. BMC Anesthesiol. 2021;21(1):283. doi: 10.1186/s12871-021-01492-6 EDN: SJBMPN
- Gataa IS, Abdullah Z, González Cabrera MV, et al. Impact of whey protein on lipid profiles: A systematic review and meta-analysis. Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis. 2025;35(6):103858. doi: 10.1016/j.numecd.2025.103858
- Moriya T, Fukatsu K, Noguchi M, et al. Effects of semielemental diet containing whey peptides on Peyer’s patch lymphocyte number, immunoglobulin A levels, and intestinal morphology in mice. J. Surg Res. 2018;222:153-159. doi: 10.1016/j.jss.2017.10.015
- Tsutsumi R, Horikawa YT, Kume K, et al. Whey peptide-based formulas with omega-3 fatty acids are protective in lipopolysaccharide-mediated sepsis. JPEN. 2015;39(5):552-61. doi: 10.1177/0148607114520993
- Farahmandpour F, Haidari F, Heidari Z, et al. Whey protein intervention and inflammatory factors and oxidative stress: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Nutr. Rev. 2025;83(4):609-621. doi: 10.1093/nutrit/nuae100 EDN: TQGESZ
- Su R, Wen W, Jin Y, et al. Dietary whey protein protects against Crohn’s disease by orchestrating cross-kingdom interaction between the gut phageome and bacteriome. Gut. 2025;74(8):1246-1260. doi: 10.1136/gutjnl-2024-334516
- Kishta OA, Guo Y, Mofarrahi M, et al. Pulmonary Pseudomonas aeruginosa infection induces autophagy and proteasome proteolytic pathways in skeletal muscles: effects of a pressurized whey protein-based diet in mice. Food Nutr. Res. 2017;61(1):1325309. doi: 10.1080/16546628.2017.1325309
- Chitti W, Insin P, Prueksaritanond N. Effect of whey protein supplementation on postoperative outcomes after gynecological cancer surgery: a randomized controlled trial world. J. Oncol. 2025;16(1):70-82. doi: 10.14740/wjon1990 EDN: YLIZTB
- Vella R, Pizzocaro E, Bannone E, et al. Nutritional intervention for the elderly during chemotherapy: a systematic review. Cancers (Basel). 2024;16(16):2809. doi: 10.3390/cancers16162809 EDN: JSYXJE
- Lin CC, Shih MH, Chen CD, Yeh SL. Effects of adequate dietary protein with whey protein, leucine, and vitamin D supplementation on sarcopenia in older adults: an open-label, parallel-group study. Clin. Nutr. 2021;40(3):1323-1329. doi: 10.1016/j.clnu.2020.08.017 EDN: EIYZOF
- Li F, He R, Yue Z, et al. Effect of a 12-mo intervention with whey protein powder on cognitive function in older adults with mild cognitive impairment: a randomized controlled trial. Am. J. Clin. Nutr. 2025;121(2):256-264. doi: 10.1016/j.ajcnut.2024.11.019 EDN: ZOPSWH
- Ding G, Lu M, Li J. BMI, weight change, appetite reduction and cognitive impairment of elderly patients with diabetes. Sci. Rep. 2024;14(1):14050. doi: 10.1038/s41598-024-65005-4 EDN: KZHKUX
- Pinelli G, Siri C, Ranghetti A, et al. Can we add whey protein supplementation in patients with Parkinson’s disease without interfering with levodopa response? Int. J. Neurosci. 2024;134(9):973-977. doi: 10.1080/00207454.2023.2178433
- Yamamoto S, Allen K, Jones KR, et al. Meeting calorie and protein needs in the critical care unit: a prospective observational pilot study. Nutr. Metab. Insights. 2020.26;13:1178638820905992. doi: 10.1177/1178638820905992 EDN: KWMCCO
- Hashemilar M, Khalili M, Rezaeimanesh N, et al. Effect of whey protein supplementation on inflammatory and antioxidant markers, and clinical prognosis in acute ischemic ctroke (TNS Trial): a randomized, double blind, controlled, clinical trial. Adv. Pharm. Bull. 2020;10(1):135-140. doi: 10.15171/apb.2020.018 EDN: BBLOPL
Supplementary files