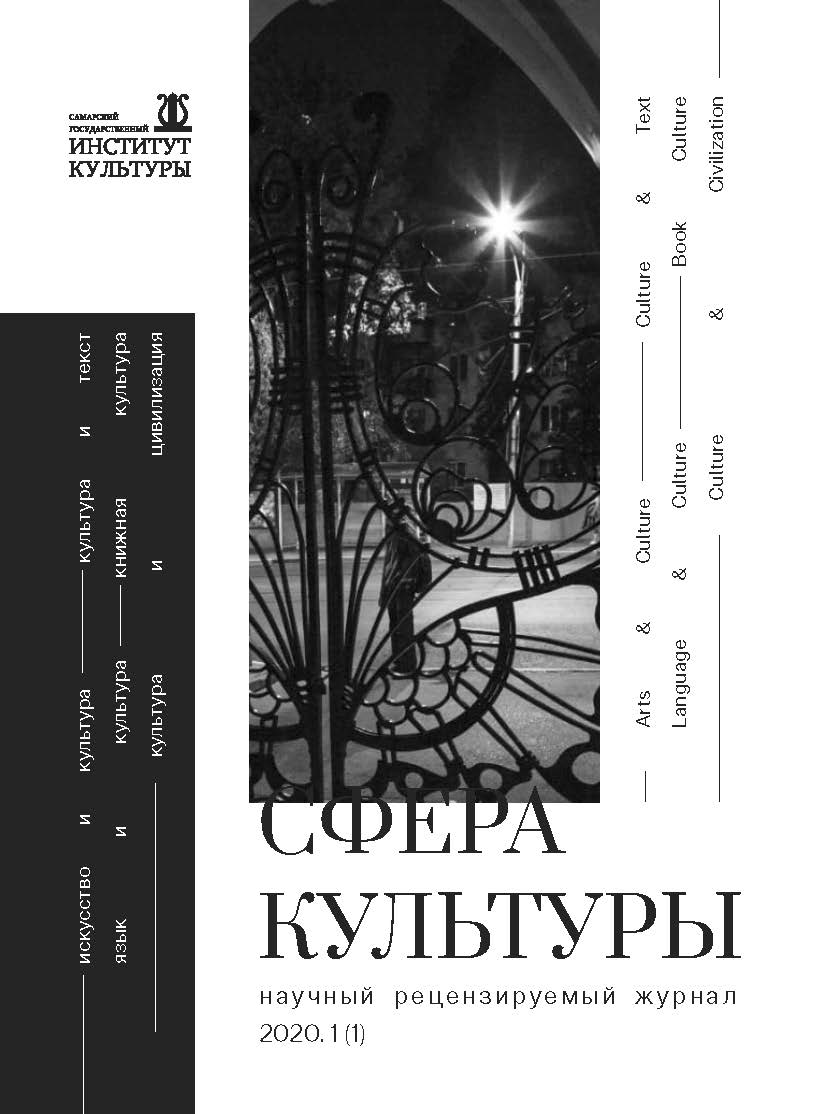Verbal art in the contextof art synthesis (on the material of intermedial texts with singular authority)
- Authors: Gavrikov V.A1
-
Affiliations:
- Issue: Vol 1, No 1 (2020)
- Pages: 61-73
- Section: Articles
- Published: 15.06.2020
- URL: https://journals.eco-vector.com/2713-301X/article/view/82764
- DOI: https://doi.org/10.48164/2713-301X_2020_1_61
- ID: 82764
Cite item
Full Text
Abstract
The article is devoted to the current state of interdisciplinary research in the field of intermediate (“synthetic”) arts, in which one of the expressive linkages is the artistic word. The author focuses on the arts in which one person creates all of the “subtexts” (subsystems) of the artistic intermedia text. Such instances occur in literature and song lyrics. The song combines word, music and “speech theater” of the performer, but research into the synthesis of these three “subtexts” is rare. Most researchers do not study phonograms (video recording), but rather the interlinear (paper) text. Much meaning is lost due to this methodological approach. The author of the article demonstrates the multidimensionality of song and poetic texts using examples from Vladimir Vysotsky and Alexander Bashlachev. The songs by these authors are semantically rich and markedly performative, where part of the meaning derives from articulation and voice modulation. Articulation creates at least three semantic effects that complement the verbal text. These are: the creation of a system of speech characters; the materialization of the poetic text (for example - sound imitation); and plot correction. Recipients will miss a number of meanings important for understanding the song if they sight-read the song and do not listen to the phonogram. The author of the article believes that for the study of artistic objects of mixed semiosis it is necessary to create a special branch of knowledge (intermediology).
Full Text
Существует множество терминов, обозначающих художественные образования смешанного семиозиса, т. е. синтез искусств: синкретические тексты (текст я здесь понимаю в семиотическом, а не в лингвистическом значении), синтетические, интермедиальные, полисемиотические, интерсемиотические, креолизованные, полиполярные и т. д. На Западе более употребительна «интермедиальность», в российских исследованиях пока нет термина, ставшего конвенциальным, чаще других, кажется, используется «синтетический текст». Синтез искусств - чаще всего это соединение слова с другими выразительными рядами. В качестве исключения можно назвать, например, балет. Зато опера, кинематограф, песенная поэзия, театральный текст - все это системы со словесной составляющей. На ней я и остановлюсь в настоящем исследовании. Уже с глубокой древности словесность соединялась с другими искусствами. Собственно, пралитература не мыслилась без музыки и того, что сейчас бы назвали перформансом или хеппенингом. А все потому, что, как отметил Ж. Деррида, «в начале было пение» [1, с. 359]. Известно также, что синкретическое праискусство служило не для эстетических, а для «прикладных» (чаще всего обрядовых, магических) целей. Э. Кассирер пишет: «У первобытных народов угрозу и катастрофы отгоняют и “заклинают” пением, громкими криками и восклицаниями» [2, с. 54]. «Мифические представления, сочетавшиеся с пением, музыкой и пляскою, дали им священное значение и сделали их необходимою обстановкою языческих празднеств и обрядов», - указывает А.Н. Афанасьев [3, с. 170]. Таким образом, словесное праискусство в период синкретизма (дорефлективного традиционализма) было некоей троичной моделью, где соединялись слово, музыка и действо. Проходили века, изменялись функции словесности, само мышление, однако еще очень долго синтез слова с другими видами искусства был актуален, как подчеркивает Е.В. Герцман: «Отношение к синтезу слова и музыки позднеантичное музыкознание заимствовало от воззрений архаичных времен, когда музыка представляла собой неразрывное триединство слова, пения и танца» [4, с. 52]. С картинкой слово соединилось, вероятно, в момент своего появления. Более того, существует версия, что письмо вообще образовалось из картинки, которая упрощалась и типизировалась. На данный момент самым древним из найденных памятников письменности считаются артефакты открытого в 1961 г. дунайского протописьма (культура Винча). По предположению ученых, это чуть ли не пятое тысячелетие до нашей эры. Если мы посмотрим на эти памятники письменности, то увидим то же, что и в современном Интернете: соединение слова и картинки. То есть синтез вербального начала с другими так же стар, как и сама словесность в двух ее ипостасях: звучащей и письменной. Можно предлагать различные классификации этого синтеза искусств. Я предлагаю разделить все образования смешанного семиозиса на две большие группы. Первая из них - это такой интермедиальный текст, все выразительные ряды которого созданы одним автором. Второй, соответственно, полиавторский, наверное, лучшей иллюстрацией здесь будет опера: музыка сочиненная, музыка исполненная (это ведь тоже текст), вокал, словесная составляющая - это все, как правило, создание разных людей. Конечно, не следовало бы соединять все эти «тексты» в один ряд, потому что для акционных искусств есть два типа авторства и, соответственно, два «рождения» интермедиального произведения: сочинение и исполнение. Понятно, что охватить все словесно-интермедиальные искусства с комбинированным авторством в статье невозможно. Поэтому я остановлюсь на художественном интермедиальном тексте, одной из подсистем которого является словесный субтекст (термин «субтекст» закрепился за гомогенной составляющей интермедиального текста в русской рокологии, т. е. науке о «рок-поэзии»). Начну с соединения авторской картинки и печатного слова. История литературы знает немало писателей, которые являлись одновременно и иллюстраторами своих творений. Можно назвать Эдгара Алана По («Повесть о приключениях Артура Гордона Пима»), Антуана де Сент-Экзюпери («Маленький принц»), Льюиса Кэрролла («Алиса в стране чудес») и многих других. Нельзя не вспомнить и пушкинские рисунки, по которым «Союзмультфильм» даже снял полнометражную мультипликационную трилогию... В современной литературе также множество фактов соединения визуального и вербального: начиная от «биопоэзии» и заканчивая гипертекстовыми романами, где видеоряд является одной из составляющих «конечного продукта» (литературный гипертекст развит в англоязычной среде: см. например, текстуально-визуальный гипертекст Шелли Джексон «Patchwork Girl»). Однако я не настолько силен в теории живописи, чтобы погрузиться в эту тему. Мне бы хотелось коснуться другой ипостаси словесной интермедиальности: соединения музыки и вербального текста, где обе составляющих (а еще исполнение) - суть творения одного автора. Чуть ли не самым ярким мастером паравербальных и невербальных средств выразительности, соединенных с поэтическим текстом, был Владимир Высоцкий. О его творчестве написаны сотни, если не тысячи научных и исследовательских статей. Наверное, добрую половину их я в свое время прочел. И вот я не могу припомнить, чтобы где-то шла речь о визуализации у Высоцкого, хотя это немаленький пласт даже в песенном (я уж не говорю о кино-театральном) творчестве Высоцкого. Здесь мне вспоминается, как бы сейчас сказали, клип на песню «Утренняя гимнастика», снятый в 1974 г. телевидением Венгрии. Эта запись постановочная: поэт не только прохаживается с гитарой, но и активно (по-актерски) жестикулирует, а также делает ряд гимнастических этюдов. То есть создает полноценный визуальный текст: жестовый, мимический, даже «костюм» здесь играет определенную роль - облегающая водолазка не скрывает вздувшихся мускулов, когда поэт, например, делает «крокодила», опершись о столик. Однако не только визуализация, но и вообще исполнительство Высоцкого находится на далекой исследовательской периферии. Всем понятно, насколько богаче смысловая палитра исполненных Высоцким произведений по сравнению с «бумажным» их «подстрочником». И вот этот зазор между песенностью и «литературностью» (если считать литературу искусством письменным) сколь огромен, столь и малоисследован. Все, что я здесь могу назвать, это пару-тройку концептуальных статей С.В. Свиридова, главная из которых: «Рок-искусство и проблема синтетического текста» [5], концепцию «синтетической языковой личности» Д.И. Иванова [6], а также книгу Л.Я. Томенчук [7], где данному вопросу уделено порядка сорока страниц. У меня есть пара книг на эту тему [8; 9]. Но это все - лишь единичные подступы к решению проблемы, которая мне кажется огромной. В основном же русские филологи рассматривают песенную поэзию «с листа», т. е. без учета ее интермедиальной природы. Очевидно, что этот подход продуктивен лишь до определенного предела: как предварительная частнонаучная проработка материала. Для того чтобы действительно понять особенности смыслопорождения в образованиях смешанного семиозиса, нужно глубоко погружаться в синтез. Сегодня я вижу несколько болевых точек при движении к этому синтезу. Чуть ли не главная среди них - стереотипы «привычки милой», как сказал бы классик. Дело в том, что ученый вращается в кругу тех методологических констант, которые привиты ему со школьной, а потом и с университетской скамьи. Синтез же требует полного слома стереотипов, в чем я убедился, работая над докторской. В какой-то степени мне удалось их преодолеть, но лишь «в какой-то степени». Сегодня, десять лет спустя, вижу, как много я недоговорил тогда. Конечно, в рамках научной статьи невозможно коснуться всех аспектов рассматриваемой проблемы. Здесь я хочу на примерах показать лишь три, скажем, так «нюанса», которые игнорируются при анализе текстов песенной поэзии. Первый из этих «нюансов» - работа с артикуляционной составляющей, иначе говоря - с речевой и вокальной выразительностью в субъектном разрезе. Речь идет о том, что автор может создавать целую систему «голосов» («персонажей»), которые «действуют» в песенном произведении. Чтобы понятно было, что это такое, приведу конкретный пример - это песня Высоцкого «Слухи» («Сколько слухов наши уши поражает…»), я работаю с фонограммой, записанной в парижской студии М. Шемякина. Начинается песня с некоего вступления в тему: Сколько слухов наши уши поражает, Сколько сплетен разъедает, словно моль! Например, ходят слухи, будто все подорожает (абсолютно!), А особенно - поваренная соль! Это своеобразное вступление произносится от лица ролевого героя (РГ-1), речь которого обладает фонетическими особенностями: он произносит мягко окончания глаголов третьего лица (поражаеть, разъедаеть), кроме того, искажает слово будто (звучит что-то наподобие «быдто»). Кроме того, Высоцкий использует специфические для своих геройных ипостасей «протяжки»: например, в слове особенно. Это искривление артикуляции трудно объективировать, можно сказать, что поэт истончает голос, имитируя при этом не очень четкую артикуляцию, соотносимую с антуражной речью пьяного. Ничего подобного в песнях «от автора» не встречается. Припев исполняется голосом того же РГ-1: Словно мухи, тут и там Ходят слухи по домам, А беззубые старухи Их разносят по умам! Здесь речевые особенности субъекта еще ярче: отчетливые «ю» в глаголах «ходють» и «разносют» (а первое слово дано еще и с мягким «т»), четкое «я» в слове «бяззубые». Текстологи при подготовке к изданию этой песни часто используют маркеры прямой речи, чтобы указать на переход от одного субъекта к другому: - Слушай, слышал? Под землею город строят… Согласно знакам препинания, следующий субъект появляется начиная со слов: - Вы слыхали? Скоро бани все закроют… Такой прием вполне логичен, и все же я откажусь от него, так как в звучащем тексте знаков препинания нет. На фонограмме же звучит следующее: Слушай, слышал? Под землею город строят, Говорят, на случай ядерной войны! Да вы слыхали? Скоро бани все закроют (повсеместно) Навсегда, и эти сведенья верны! В этом четверостишии происходят весьма интересные процессы. Перед нами отчетливая смена субъекта: первая строка произносится более низко, чем это делал РГ-1, и менее распевно (это, допустим, РГ-2). Данный фрагмент соотносится с припевом почти как пение и речитатив. Любопытно, что вторая строка куплета произносится более хрипло, громко, напряженно. Либо РГ-2 «меняет голос», либо, несмотря на продолжение фразы, перед нами уже кто-то третий (РГ-3). Так и будем считать: можно допустить, что РГ-3 «перехватил инициативу» у РГ-2, не дав тому договорить. Третья строка нашего четверостишия звучит еще более громко, хрипло и напряженно. Опять можно предположить, что либо РГ-3 «вошел в раж», либо появляется РГ-4. Последняя строка - своеобразное «затухание» напряженности, тут уже трудно атрибутировать субъекта: либо это продолжает РГ-4, либо РГ-2, либо Высоцкий готовит речевой аппарат к распевному и менее брутальному РГ-1, поэтому артикуляционное напряжение идет на спад. Обратим также внимание, что субъекты РГ-1, РГ-2, РГ-3 и РГ-4 представляют собой людей из одной языковой среды. В рассмотренном выше четверостишии встречаются все те же просторечные маркеры: «строють», «говорять», «закроють», «ети» (вместо «эти»). Второй припев идентичен первому - произносится со всеми речевыми маркерами, типа «бяззубые». Следующий куплет родом из того же просторечного «пространства». Слово «знаете» звучит как «знаитя» или даже «знайтя». «Его» произносится с билабиальным (что-то среднее между «у» и «в»). Отчетлив «ё» (без йота) в слове «дебёшь». Сохраняются мягкие согласные в конце глаголов третьего лица: «забирають». Отчетливо (с «ч») Высоцкий артикулирует «что» вместо привычного «што». А вы знаете? Мамыкина снимают - За разврат его, за пьянство, за дебош! И, кстати, вашего соседа забирают (негодяя), Потому что он на Берию похож! Что касается интонаций, то здесь выделяется два субъекта, один брутальный, хриплый и напористый РГ-3, второй (3-4 строки) говорит более нейтрально и соответствует скорее РГ-2. Хотя линейку героев можно было бы и продолжить: РГ-5, РГ-6. Третий припев на удивление схож с двумя другими. Следующий куплет снова представляет собой обрывочные реплики, с той только разницей, что отчетливого речевого разделения между строками здесь нет. Хотя напряжение опять несколько спадает к концу четверостишия: Ой, что деется! Вчерась траншею рыли, Так откопали две коньячные струи! Говорят, шпионы воду отравили (самогоном). Ну а хлеб теперь - из рыбной чешуи! Опять перед нами россыпь просторечных форм: «вчерась», «шпиёны», «таперь», даже «рыбная чешуя». После традиционно «выполненного» припева следует интереснейший с субъектной точки зрения куплет: И поют друг другу - шепотом ли, в крик ли, Слух дурной всегда звучит в устах кликуш, А к хорошим слухам люди не привыкли, Говорят, что это выдумки и чушь. Первые две строки произносятся совсем не так, как все остальное в этой песне. Перед нами уже субъект из иной, чем другие, речевой среды. Здесь нет искривления артикуляции, перед нами как бы «авторский голос», но понятно, что автора в тексте произведения быть не может, поэтому эту лирическую ипостась можно назвать повествователем (П-1). Он вещает как бы от лица некоей истины (такая «фокализация» была свойственна средневековой литературе). Самое интересное происходит в третьей строке: Высоцкий начинает постепенно добавлять в П-1 элементы РГ-1 (или любого другого из РГ). В третьем стихе это еще проявляется на уровне интонации, а в четвертой к ней добавляется несистемная для П-1 форма «ето» (вместо «это»). То есть повествователь постепенно растворяется в ролевых героях! А завершается этот процесс ролевым припевом, на сей раз начинающимся союзом «сопричастия»: «И словно мухи…». Это очень важный маркер - перед нами продолжение предыдущей мысли о «выдумках и чуши», а значит, «перетекание» завершается. Союзом Высоцкий как бы фиксирует полное растворение (или лучше - превращение) П-1 в РГ-1. Такая же субъектная структура встречается и в следующем куплете: Закаленные во многих заварухах, Слухи ширятся, не ведая преград. Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов (абсолютно!), Ходят слухи, будто сплетни запретят! Здесь деление на два голоса более отчетливо: первые две строки принадлежат П-1, третья и четвертая - РГ-1, правда, последние три слова катрена интонационно следует отнести к речевой манере П-1. Кроме того, лексемы «ходят», «будет» (третья строка) и «ходят» (четвертая) произносятся с отчетливым мягким согласным в конце («ходять»), а вот «запретят» артикулируется твердо - в манере П-1. Снова изоморфизм субъектов! Завершается все припевом, на сей раз открывающимся союзом «но», т. е. опровергающим предыдущий тезис о запрете слухов. В этом контексте становится понятно, почему слова «будто сплетни запретят» произносит П-1: если бы Высоцкий остался в «рамках» РГ-1, то получилось бы, что последний сам себя опровергает. Это с субъектной точки зрения было бы не очень убедительно. А так - точку в песне ставит РГ-1, свидетельствуя, что слухи были, есть и будут. Итак, в песне четко проявлено как минимум три речевых субъекта: «теоретик» РГ-1 (дает «теорию слухов» с точки зрения обыденного сознания); «практики» РГ-2, РГ-3, РГ-4 и т. д., которые на поверку могут оказаться одним и тем же субъектом, хотя скорее речь здесь нужно вести о «хоровом субъекте» РГ-2+ (воспроизводит собственно слухи); «теоретик» П-1, который наиболее близок к авторской позиции (дает «теорию слухов» развернуто и обоснованно). Причем повествователь выполняет и назидательную функцию: сожалеет о том, что люди привыкли к плохим слухам и не хотят знать хороших. Второе. Четкое разделение на три типа субъектности имеет выход в архитектонику и даже затрагивает жанр. Так, тот же назидательный вывод П-1 может быть соотнесен с моралью в конце басни, в таком случае перед нами специфический жанровый элемент. Кроме того, три разных «голоса» представляют собой три этапа развертывания «лирического сюжета»: от размышлений о слухах со стороны обыденного сознания (РГ-1), потом - собственно к материалу «исследования» (хоровой РГ), следом - к авторскому высказыванию, подводящему итог. Однако помимо субъектной составляющей есть и еще один важный маркер, связанный с архитектоникой звучащего текста: темп мелодии и пропевания. Ровно в середине фонограммы Высоцкий убыстряет музыку, что повышает динамизм, появляется впечатление чего-то нарастающего, «набирающего обороты», как будто материализует то, что «слухи ширятся, не ведая преград». И еще. Интереснейшим феноменом песенной поэзии (встречается еще как минимум у А. Галича) оказывается изоморфизм разных героев и, соответственно, типов сознания. Это не просто дистантный диалог, а подвижная колеблющаяся структура, где лирическое «Я» то отдаляется от авторского, то приближается к нему. У Высоцкого иногда легитимны полярные точки зрения на одно и то же событие. Он как бы умеет оправдать противоборствующие силы, увидеть и принять мотивировку каждой из них. Следует также сказать, что изоморфизм, стирающий границы между героями, не позволяет с точностью определить, сколько здесь «голосов»: три, семь или более десятка. Перед нами переливы субъектного спектра, а не четко прорисованные границы каждого лирического «Я». Не нужно специальных исследований, чтобы понять, что подобный исполнительский рисунок не догма, а лишь один из вариантов интермедиальной интерпретации произведения. Разные его исполнительские инкарнации со всей очевидностью могут привнести в эту субъектную структуру иные «коннотации». Причем иногда произведение может меняться чуть ли не с точностью до наоборот, т. е. менять свою «валентность». Интересно в этой связи понаблюдать за песней «Она была чиста, как снег зимой…». На большинстве фонограмм эмоционально-экспрессивная трактовка этого произведения однозначна: перед нами серьезная, почти трагическая песня о любви, двуличности и, вероятно, измене. На записях Шемякина интонационно Высоцкий выдерживает данную линию безукоризненно в течение почти двух с половиной минут. Здесь есть все, что ожидается от подобного рода произведений: раздумчивые, скорбно произносимые фразы, сопровождаемые тревожными гитарными переборами, взрывы негодования (имею в виду интонационную сферу)… И вдруг в самом конце фонограммы меняется голос: слова «всегда намерен побеждать» произносятся в неожиданном ключе, пискляво, что напомнило мне партию Зины из «Диалога у телевизора». А после них Высоцкий, если так можно выразиться, иронично хихикает, тем самым уничтожая весь пафос предыдущих куплетов. На мой взгляд, объяснить это можно тем, что поэт указывает на несамостоятельность, «невысоцкость» данной вещи: перед слушателем лишь стилизация под «печальный романс», которую не должно принимать «за чистую монету». Две с половиной минуты Высоцкий не создавал драматизм, а лишь играл в него - и эту условность нужно четко понимать. В этой связи хорошо сказал С.С. Шаулов (правда, он имел в виду Башлачева): «Важным представляется все-таки то, что варьирование текста очень часто приводит к появлению дополнительных, иногда противоположных предыдущему прочтению смыслов. На первый план выходит бытование текста в конкретной (а не взятой в теоретическом обобщении) ситуации исполнения / восприятия» [10]. «Речевая мелодика», «артикуляционная выразительность» могут использоваться для создания иных смысловых эффектов. Например, для материализации спетого. В качестве примера я рассмотрю здесь «Егоркину былину» Александра Башлачева (запись, сделанная Марком Копелевым в Новосибирске 21 декабря 1985 года). Начинается песня с перешептываний, игры дыхания и своеобразного пересмеивания, создающих специфический антураж: перед нами что-то странное, таинственное, непознанное. Таким образом, в начале песни (т. е. в сильной позиции) идет игра междометий, которые условно можно описать как посмеивание («хе-хе-хе») и шипение («ш-ш-ш»). Первые строки песни Башлачев произносит так же антуражно, вначале это шепот: «Как горят костры», потом - почти крик: «Как горят костры!». Такие перепады громкости будут сопровождать «былину» на протяжении всего текста. И они очень «к месту» - создают рваный ритм, который, будучи поддержан поэтическим текстом, образует очень выразительное, скажем так, пространство художественных смыслов. В своей основе «былина» - это монотонный пятисложник, если бы не эта игра голоса, слушать эту композицию было бы очень утомительно, ведь длится она около 20 минут. Еще один прием ухода от монотонности - материализация спетого, Башлачев нередко «переводит слово в факт» (С.В. Свиридов). Например, поэт произносит: «А вишневый крем только слизывает», в лексеме «слизывает» сонорный «л» тянется как гласный, имитируя собственно слизывание. Потом во фразе «биты кирпичи» Башлачев слово «кир-пи-чи» разбивает на слоги благодаря паузам, тем самым материализуя то, что они «биты». Затем следует строка: «прозвенит стекло на сквозном ветру», где первое слово произносится примерно так: «прозвеннннииии-и-и-ит» (с придыханием и вибрацией, имитирующей колебания стекла). Затем после фразы «черной гибелью сгинет всякое дело божее» при помощи тишины материализуется сама пустота, отсутствие того, что «сгинуло». Безмолвие сопровождается лишь едва слышным зловещим перешептыванием. А затем следует взрыв: «Там! Где без суда все наказаны. / Там!!! Где все одним жиром мазаны. / Там! Где все одним миром травлены». «Травлены» - почти хрип, словно перед нами агония «травленных». Следующий значимый невербальный компонент встречается в других фонограммах «Былины» во фразе: «То не просто вонь - вонь кромешная». После первого слова «вонь» Башлачев делает глубокий вдох через нос, как бы обоняя этот смрад. Затем во фразе: «Погадай ты мне, тварь певучая - / очи черные, очи жгучие» в первом слове «очи» звук «о» образован «смехом»: «охохочи (где «х» произносится при помощи выдоха-смешка). А после фразы «так возьмешь за то…» слышится «причмокивание», обозначающее предвкушение чего-то ценного, и после паузы конкретизируется: «дорогой мундир». Надо слышать эту интонацию, этот «дорогой мундир»! Сколько здесь заискивания, скрытой, не скажу иначе, злобно-радостной энергии, которая, хотя и в подтексте, а все же отчетлива. Явно герой искушаем нечистой силой, которая, с одной стороны, как бы добра к нему, а с другой - не может не проявить своей истинной сущности… Очень трудно это объяснять - надо слушать. Потом Башлачев описывает новую одежду Егора, заканчивая каждое из описаний своеобразным затуханием: «с медаляааааа», «с кокарда.да..да…да….». Посредством точек я изобразил паузу между слогами. Как видим из этой произвольной «диаграммы», в слове «кокардою» реализовано звуковое «затухание» - паузы между словами растут, а громкость произносимого падает. Такая звуковая игра неслучайна: приемом «затухания» поэт создает у слушателя впечатление иллюзорности «дорогого мундира с медалями» и «дорогого картуза с кокардою»: блага, полученные от темной силы, не могут быть прочными, настоящими… Когда переодевание Егора завершается, мы слышим: «и надел обмундированиё... хо-хой», где отчетливо видно переживание повествователя за ошибочный поступок персонажа, актуализирующееся посредством междометия «хо-хой». Можно «перевести» с междометно-интонационного «языка» на лексический это чувство так: «бедный ты, бедный, неразумный!». После того как Егор получает новые качества (благодаря новой одежде), происходит изменение и мира вокруг: «Заплясали вдруг тени легкие». Эта перемена характеризуется и резкой сменой гитарного ритма, который становится быстрым, «плясовым». Мы практически видим, как пляшут эти тени! Уж не Danse ли Macabre перед нами? Да и голосом Башлачев передает наступившую перемену: несколько фраз он произносит почти в частушечном темпе. И от этого контраста, от этой «невеселой частушечности» становится еще более страшно. Потом после фразы: «Отворив замки Громом-посохом» следует внушительная пауза, слушатель словно застывает у открывающейся двери в ожидании - кто же там?! Громкое - «громовое» произнесение указанной фразы создает эффект обманутого ожидания: слушатель ждет кого-то величественного, жуткого, огромного. Но… вместо этого - шепотом, заискивающе, с как бы доброй улыбкой и нежностью в голосе (отчего еще более жутко, чем от крика): «В белом саване / Снежна Бабушка». Речь Бабушки весьма примечательна: «Собери-ка ты мне… капли звонкие». В этой фразе последнее слово произносится как: «звон… н… н… кие» - Башлачев голосом имитирует капание. Затем Снежна Бабушка говорит: «Ты подуй хе-хе Егор». В слове «подуй» после звука «д» Башлачев начинает дуть и на одном дыхании переходит к «посмеиванию», а оттуда без пауз «выходит» к слову «Егор»: «подууухехеэгор». Таким образом, лексема «подуй» материализует то, как Снежна Бабушка дует. Возникающий благодаря стараниям Егора из пепла огонек прожигает «шаль всю, всю, всю, всю, всю расшитую мелким крестиком». За счет пятикратного повторения местоимения «всю» и убыстрения темпа поэту удается создать у слушателя представление о том, что «мелких крестиков» на шали весьма и весьма много. Отмечу, что я лишь описываю звуковые (преимущественно - артикуляционные) эффекты, но не вторгаюсь в пространство поэтических смыслов. Бегло скажу о них лишь здесь. Эта «расширенная» за счет многократного повторения шаль есть - в контексте башлачевской поэтики - отсылка к блоковским претекстам, где разработана градация: Россия - женщина - платок. У Башлачева в «былине» (да и не только) также присутствует эта градация. Получается, что звуковой эффект работает на интертекстуальность, на расширение интерпретационной перспективы, вступает в сложные отношения с вербально-поэтической составляющей… Вскоре следует фраза: «У Шексны-реки нету ярмарки». Башлачев материализует отсутствие ярмарки тишиной, которую буквально взрывает крик: «Только черный дым (!) тлеет ватою». Крик же сопровождает фразу: «Голосит беда: А! А!! А!!! бабьим голосом», где звук идет по нарастающей. Так Башлачев онтологизирует крик «голосящей» беды: мы не просто узнаем, что беда может «голосить», но и непосредственно слышим ее голос. Хотя в рукописи поэта дан вариант с пониженным регистром, я бы написал «новосибирскую» Беду - однозначно - с большой буквы. Этот пример, вплетенный в богатую картину других башлачевских олицетворений, не только материализует слова песни, но и «оживляет» персонажей, т. е. перед нами своеобразная речевая персонификация: персонаж получает свой неповторимый голос, как это было у Высоцкого. Наконец, третья особенность артикуляционного текста, которую я обнаружил в песенных произведениях, связана с сюжетом. Иначе говоря, речевые особенности могут работать на сюжетосложение и даже шире - на выстраивание архитектоники интермедиального текста. На тех же записях М. Шемякина Высоцкий исполняет песню «Я вам мозги не пудрю…» (называю по первой строке). Иначе она именуется «Тот, который не стрелял». Начинается песня спокойно, нейтрально, ролевой герой будто реализует на практике свое высказывание «уже не тот завод»: переживать, набивать себе цену, баловать изысканной выдумкой он не стремится. Просто сухо констатирует факты. Первые две строфы («Я вам мозги не пудрю…», «Мой командир меня почти что спас…») словно не способны побудить ролевого героя к чувству, будто он рассказывает не о себе, а о ком-то постороннем. Действительно - «не тот завод»! А ведь речь-то идет не о чем-нибудь, а о расстреле! Предположу, что у слушателя может возникнуть диссонанс между спокойным произнесением и тем смыслом, который заложен в словах солдата. Высоцкий будто наносит нейтральную интонационную грунтовку, чтобы потом на нее накладывать краски. И они с третьей строфы начинают проявляться. «Судьба моя лихая…» - неожиданно (на контрасте с интонационно нейтральным началом) звучит с горечью и сожалением, а также с некоторым стоицизмом. Затем появляется особист Суэтин - «неутомимый наш», который и подвел ролевого героя под расстрел, - в голосе уже горькая ирония. Волнение героя нарастает. Он, будто бы сам того не желая, погружается в воспоминания, они его все более захватывают. Восьмистишие, начинающееся со строки «Рука упала в пропасть…», звучит уже с откровенным ужасом. Такой интонационный ход может вызвать удивление: второй раз в песне речь идет о расстреле, но в первый раз герой был спокоен и безучастен, во второй - наоборот, эмоционален. Следующий эмоциональный всплеск - строка: «Я выл белугой и судьбину клял…»: погибает тот, который не стрелял; тот, кто, по сути, и спас ролевого героя от смерти. Здесь боль не только отчетлива, но, кажется, она даже сильнее, чем во время собственного расстрела (вспомним: «Рука упала в пропасть…»). И - что любопытно и неожиданно - последние две строки песни произносятся подчеркнуто нейтрально: «Немецкий снайпер дострелял меня, / Убив того, который не стрелял». После эмоционального взрыва - ледяное спокойствие. С точки зрения поэтического текста можно выделить в произведении три зоны повышенной эмоциональности, как бы три кульминации: 1) первое сообщение о расстреле, 2) описание расстрела, 3) смерть «того, который не стрелял». Первая и вторая вершины этой сюжетной «синусоиды» артикулируются на удивление различно, а ведь речь идет об одном и том же событии - о расстреле ролевого героя! Что касается третьей кульминации, то она внутри себя содержит ту же артикуляционную «разность», «антиномию», что констатируется между лексическими кульминациями 1 и 2. Получается, что два главных события песни даются с двух противопоставленных интонационных позиций. Такой двойной контраст можно объяснять разными причинами, но я не стану это интерпретировать. Мне хочется заострить внимание на том, что «спрятанный в артикуляцию» поэтический текст - это некая матрица, основа, часто обусловливающая те процессы, которые происходят в интонационной сфере, а иногда, реже, - нет. Если бы эмоциональные блоки с позиции сюжета всегда сопровождались повышением речевой экспрессии, то эта предсказуемость заметно обеднила бы интермедиальный текст песни. Думаю, что Высоцкий это понимал. Поэтому и «организовывал» такие вот несовпадения. Все сказанное можно представить в виде своеобразного маятника: интонация, экспрессия то максимально приближаются, совпадают с «голой» (если угодно - «бумажной») поэтической семантикой, то отдаляются от нее. Таким образом и без того «объемная» вещь становится еще более разнообразной, несимметричной. Причем слушатель рефлективно и не осознает всего этого, но каким-то внутренним чутьем, «эстетическим органом» чувствует сложность песни, перед его ментальным взором разворачивается целый спектакль, с экспрессивно-интонационным «подсвечиванием» происходящих событий (я коснулся только кульминаций, но помимо них там еще масса интонационных маркеров), с речевыми характеристиками действующих лиц (которые там тоже есть). А ведь все это еще сопровождается музыкой, да и собственно вокал (с музыковедческих позиций) - это тоже особое пространство смыслов... Примеры можно множить и множить. Важно то, что сторон (приемов, функций) у этой речевой выразительности явно больше, чем я назвал. И чтобы провести целостный анализ (хотя бы в формате соединения вербально-поэтического с артикуляционным), нужно знать все эти аспекты. Я могу отослать читателя к своей докторской диссертации, где, разработав экспериментальный инструментарий для анализа песенно-поэтических текстов, я применяю его на материале песни «Немой» рок-группы «АукцЫон». Если в настоящей статье я беру некий аспект изолированно, то там я пытаюсь работать комплексно, правда, используя филологический терминологический аппарат (ибо, допустим, в музыковедении я не силен). Даже такой однобокий подход, однако с прицелом на синтез, как мне кажется, дал интересные результаты. По крайней мере, это была попытка сделать шаг вперед, что-то нащупать новое. А главное в этой статье вот что: современная русская филология пока даже и не стремится войти в эту область - синтеза искусств. Собственно, и опереться ей не на что. Да, есть немало музыковедческих, искусствоведческих, культурологических работ, выполненных на материале песенной поэзии. Но я не могу припомнить ни одной, где бы рассматривались те факторы смыслообразования, которые я здесь бегло обозначил (конечно, всегда есть вероятность, что я что-то упустил). Помимо указанных наук хотелось бы подключить к исследованию этого материала лингвистов, ведь устная речь - это их «епархия». Но «песенные» лингвисты заняты, в основном, дискурсами, концептами, функциями, категориями, подсчетом лексических единиц... Все это, конечно, тоже необходимо, но, как мне представляется, «живая плоть» изучаемого явления, его специфика - в ряду других словесных искусств - нынешних «песенных» лингвистов мало интересует: они, как и литературоведы, работают «с листа», отсекая особенности живого исполнения. Моя попытка описать материал (вряд ли это можно назвать полноценным анализом) была бы, наверное, гораздо более продуктивной, если бы я подключил лингвистический инструментарий, созданный для «препарирования» устной речи. А ведь перед нами все-таки пение, так что и без музыковедов явно не обойтись. Их, занимающихся песенной поэзией, тоже единицы: Е.В. Мякотин, Е.А. Савицкая, А.М. Цукер... В музыковедческих кругах еще очень сильно предубеждение против песенной поэзии, ее изучающие числятся в «эстардниках». Хотя, например, Шнитке очень уважительно высказывается именно о музыкальной составляющей творчества Высоцкого - даже с позиции «высокого музыковедения» это отнюдь не китч. При этом в авторской песне музыкальная составляющая гораздо беднее «аккомпанемента» в роке. Несмотря на всю ее маргинальность, рок-музыка (конечно, в лучших ее образцах) стала самобытным искусством, где есть свои оригинальные композиторы, свои виртуозы-инструменталисты, многие из которых имеют консерваторское прошлое. Рок, особенно в англо-американском его изводе, - это крупное явление в музыкальной культуре середины ХХ - начала XXI века. Собственно, указанные музыковеды и некоторые их коллеги потратили много сил, чтобы это доказать. Но и они, насколько мне известно, почти не касаются синтеза - работают с музыкальной составляющей, с вокалом. Но без сцепки мелодии и ритма с поэтическим субтекстом нет и понимания «полного смысла» интермедиального произведения. Так что пока отрасли знания, связанные с авторской поэтической песенностью, работают, в основном, изолированно, не обращаясь к наработками смежных и пограничных научных сфер. Время синтеза пока не пришло, научное сообщество к нему не готово. Для того чтобы реализовать этот синтез, необходимо создать науку, которую я рискну назвать интермедиалогией (здесь: песенно-поэтической интермедиалогией). Она может быть частной (это примерно то, что я делаю здесь с опорой на литературоведение) и общей (паритетное использование инструментариев всех заинтересованных наук). В любом случае, появление ни той, ни другой интермедиалогии не стоит ожидать в ближайшем будущем ни у нас, ни, вероятно, на Западе. Беглое знакомство с работами в области англоязычной поэтической песенности убеждает меня, что наша «интермедиалогия» прошла куда больший путь. Хотя, конечно, разобрать огромный массив англоязычных исследований, связанных с песенностью, весьма непросто. Поэтому я делаю эти предположения с позиции того, что мне открылось на сегодняшний день. Что же касается вообще проблемы синтеза искусств, то она необъятна, как и сами эти искусства. На этом поприще уже создана обширная научная литература, но и здесь не так много констант (см. об этом недавнюю обзорную статью Л.Ю. Калининой [11]). Конечно, поэтическая песенность или, допустим, «литературная живопись» могут почерпнуть и из общего «методологического котла», но делать это, на мой взгляд, нужно после того, как выяснена собственная специфика. Ведь заимствования как отдельных элементов, так и всего терминологического аппарата без понимания ограничений его применимости может привести к тому, что мы пойдем по ложному следу. А пока эта специфика - в ее узкоспециальных измерениях - явно не прояснена.×
References
- Деррида Ж. О грамматологии. М.: Ad Marginem, 2000. 512 с.
- Кассирер Э. Философия символических форм: в 3 т. Т. 2: Мифологическое мышление. М.; СПб.: Унив. кн., 2002. 280 с.
- Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов: в 3 т. Т. 1. М.: Современный писатель, 1995. 258 с.
- Герцман Е.В. Византийское музыкознание. Л.: Музыка: Ленинград. отд-ние, 1988. 254 с.
- Свиридов С.В. Рок-искусство и проблема синтетического текста // Русская рок-поэзия: текст и контекст. Вып. 6. Тверь, 2002. С. 5-33.
- Иванов Д.И. Теория синтетической языковой личности: в 2 т. Иваново: ПресСто, 2017.
- Томенчук Л. «…А истины передают изустно». Днепропетровск: Пороги, 2004. 124 с.
- Гавриков В.А. Русская песенная поэзия XX века как текст. Брянск: ООО «Брянское СРП ВОГ», 2011. 634 с.
- Гавриков В.А. Циклизация и контекстность в поэзии Владимира Высоцкого: монография. Брянск: Брянский центр науч.-техн. информации, 2016. 108 с.
- Шаулов С.С. Функции поэтической традиции в лирике А.Н. Башлачёва // Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2012. № 32 (286). С. 130-132.
- Калинина Л.Ю. Понятие «синтез искусств»: актуальные аспекты // Балт. гуманит. журн. № 4 (17). 2016. С. 236-239.
Supplementary files