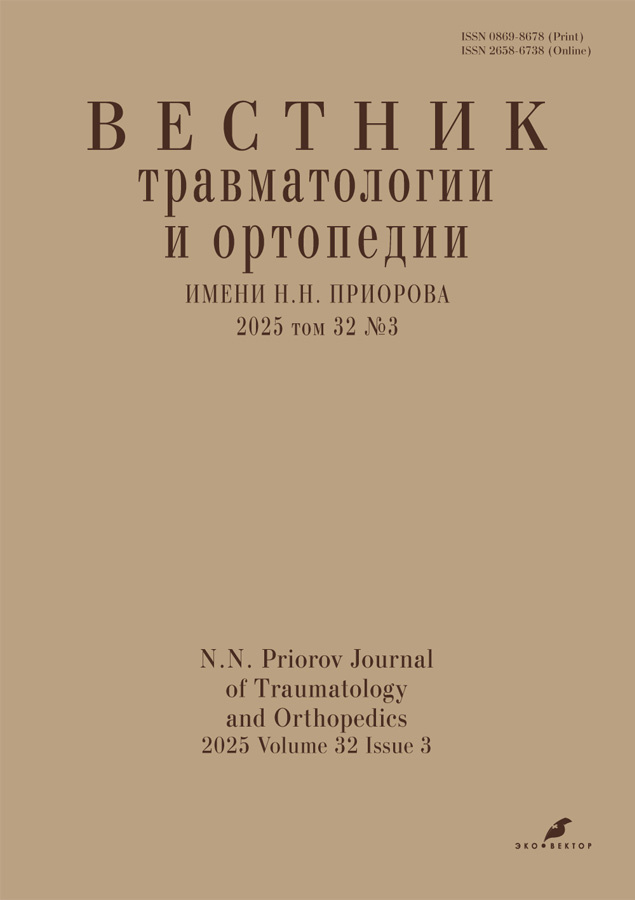Approach to the treatment of osteomyelitis and fractures with critical bone loss using biocomposites containing nanoparticulate polymeric systems for intracellular delivery of BMP-encoding plasmids, tenoxicam, and vancomycin
- 作者: Dyatlov V.A.1,2, Seregina T.S.1, Belyaeva A.A.3, Malashiceva A.B.3, Vetrile M.S.4, Vaniushenkova A.A.1, Kostandyan E.S.1, Sulpovar M.L.1, Grigoriev Y.V.5, Kordyukova A.P.1, Dyatlov A.V.1
-
隶属关系:
- Mendeleev University of Chemical Technology of Russia
- RTU MIREA
- Institute of Cytology Russian Academy of Sciences
- Priorov National Medical Research Center of Traumatology and Orthopedics
- National Research Center “Kurchatov Institute”
- 期: 卷 32, 编号 3 (2025)
- 页面: 568-584
- 栏目: Original study articles
- ##submission.dateSubmitted##: 07.04.2025
- ##submission.dateAccepted##: 18.07.2025
- ##submission.datePublished##: 01.08.2025
- URL: https://journals.eco-vector.com/0869-8678/article/view/678103
- DOI: https://doi.org/10.17816/vto678103
- EDN: https://elibrary.ru/RXOXEL
- ID: 678103
如何引用文章
详细
BACKGROUND: Osteomyelitis remains a pressing problem due to its high recurrence rate and risk of serious complications. The situation is exacerbated by increasing antibiotic resistance, which reduces the effectiveness of conventional antibacterial therapy. In this context, the development of novel therapeutic strategies for osteomyelitis, especially in cases accompanied by critical bone loss, is of particular importance.
AIM: The work aimed to test an approach to the treatment of purulent-septic inflammation complicated by bone tissue loss using biocomposite bone implants impregnated with a gel exhibiting multifunctional pharmacological activity, providing local antibacterial, anti-inflammatory, and osteogenic effects. The efficacy of the approach was evaluated in a rat model of experimental osteomyelitis.
METHODS: The research methods included the development of polysaccharide gels with mechanical and rheological properties similar to those of soft tissues (G’ = 176–271 kPa, G’’ = 3.7–4.2 kPa), containing 250 mg/g of dry polymer of amikacin and vancomycin, 0.28 mg/mL of tenoxicam gel, and 12.83 ng/mL of a plasmid encoding bone morphogenetic protein (BMP), thereby ensuring the implants exert local antibacterial and targeted anti-inflammatory effects in combination with stimulation of bone tissue growth. Two types of nanoparticulate carriers of different diameters were introduced into the gel: hyaluronic gel nanoparticles with a bimodal size distribution (d = 100 and 3000 nm) for intracellular delivery of tenoxicam into phagocytic immunocompetent cells, and nanocapsules coated with a transfection agent (d = 50–100 nm) for transmembrane transport of the plasmid into non-phagocytic cells, whose ribosomes synthesize BMP-2, initiating differentiation via the osteogenic pathway. Antibiotics are released from the carrier only in response to bacterial attack on the implant via bacterial enzymes, ensuring a local concentration 200 times higher than the bactericidal threshold. Cytotoxicity, calculated per dry gel, was 1800 µg/mL. The minimum inhibitory concentration against Staphylococcus aureus 209P was 25 µg/mL, and the bactericidal concentration was 100 µg/mL.
RESULTS: Biocomposites impregnated with a drug-containing gel were found to effectively inhibit local bacterial infection, reduce the overall level of local aseptic inflammation, and promote bone regeneration in osteomyelitis.
CONCLUSION: The therapeutic approach to treating purulent-septic inflammation complicated by bone tissue loss using implants with multifunctional pharmacological activity should be regarded as promising.
全文:
ОБОСНОВАНИЕ
Лечение гнойно-септических воспалений, сопровождающихся локальной потерей костной ткани, таких как остеомиелит, остаётся актуальной и до конца не решённой проблемой клинической практики [1–3]. Для её решения необходим поиск новых, нетривиальных подходов с привлечением специалистов из смежных областей — генной инженерии, биологии и медицинской химии. При костных травмах, не осложнённых инфекцией, успешно применяются полисахаридные скаффолды, а также алло- и ксенографты, обработанные сверхкритическими жидкостями, что обеспечивает хорошую биосовместимость [4–7]. Однако при остеомиелите хроническое воспаление, вызванное персистирующей бактериальной инфекцией, препятствует переходу к регенерации и стимулирует разрушение даже здоровой костной ткани иммунными клетками [3]. Это приводит к увеличению объёма костного дефекта, нестабильности и, как следствие, к повышенному риску патологических переломов.
Стандартная стратегия медикаментозного лечения с последующей коррекцией костного дефекта с использованием биологических имплантатов оказывается неэффективной: алло- и ксенографты, так же как и собственная кость, подвергаются разрушению в условиях гнойно-септического воспаления. В связи с этим имплантат не только должен быть устойчивым к агрессивным биологическим факторам, но и обладать целым спектром физиологически значимых свойств. К ним относятся выраженная локальная антибактериальная и противовоспалительная активность, способность подавлять асептическое воспаление, а также, что особенно важно, стимулировать регенерацию собственной костной ткани in situ [5, 8].
Разумеется, необходимость разработки таких имплантатов не исключает, а лишь дополняет общую стратегию медикаментозного лечения гнойно-септического воспаления. На сегодняшний день существует несколько подходов к решению данной проблемы, среди которых наиболее перспективным представляется создание имплантатов на основе синтетических полимеров, призванных заменить биологические материалы. Такой подход позволяет избежать ряда проблем, связанных с обеспечением стерильности и иммунной совместимости, которые характерны для всех материалов биологического происхождения, включая живые трансплантаты, алло- и ксенографты. Дополнительным преимуществом полимерных матриц является возможность инкорпорировать в них лекарственные вещества. Однако поверхность таких имплантатов, как правило, не способствует остеоиндукции, поскольку по морфологии и структуре микродоменов значительно отличается от нативной костной ткани. В отсутствие более эффективных решений в практической хирургии продолжается использование как полимерных, так и биологических материалов. Тем не менее проблема создания имплантатов, пригодных для восстановления костной ткани, утраченной вследствие остеомиелита, остаётся актуальной и является предметом активных исследований как в травматологии и ортопедии, так и в смежных областях — химии и материаловедении [2, 9, 10].
Одним из потенциальных решений может стать разработка композитных систем, сочетающих биологические и синтетические компоненты, например использование очищенного костного матрикса, обладающего естественной микроструктурой, в сочетании с биоактивными веществами, обеспечивающими антимикробное и регенераторное действие. В качестве биологической основы перспективно применение бычьей спонгиозной кости, обладающей высокой пористостью и архитектурным сходством с человеческой трабекулярной костью.
ЦЕЛЬ
Апробировать подход к методике лечения гнойно-септических воспалений, осложнённых потерей костной ткани, с использованием биокомпозитных костных имплантатов, пропитанных гелем, обладающим комплексной лекарственной функцией и обеспечивающим локальное антибактериальное, противовоспалительное и костно-регенеративное действие.
Для этого были синтезированы полисахаридные гели, содержащие ванкомицин и нанокорпускулярные полимерные системы внутриклеточной доставки КМБ-кодирующих плазмид и теноксикама, которыми были пропитаны имплантаты на основе отмытой бычьей спонгиозной кости.
Эффективность подхода оценивали на модели экспериментального остеомиелита крыс.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Дизайн исследования
На первой стадии исследования синтезировали полисахаридные гели с лекарственной функцией и механико-реологическими свойствами, близкими к свойствам мягких тканей. Они содержат амикацин, ванкомицин, теноксикам и плазмиду, кодирующую костный морфогенетический белок (КМБ), обеспечивающие имплантатам локальное антибактериальное и направленное противовоспалительное действие в сочетании со стимулированием роста костной ткани. Для внутриклеточной доставки фармсубстанций в гель вводили два вида нанокорпускулярных носителей разного диаметра: гиалуроновые гелевые наночастицы с бимодальным распределением по размерам d=100 и 3000 нм. Крупные частицы содержат теноксикам, обеспечивают его доставку внутрь фагоцитирующих иммунокомпетентных клеток и, соответственно, контролируют локальное воспаление. Мелкие гиалуроновые нанокапсулы d=50–100 нм покрыты агентом трансфекции, обеспечивают трансмембранный транспорт плазмиды в нефагоцитирующие клетки, рибосомами которых синтезируется морфогенетический белок КМБ-2, инициирующий дифференциацию клеток по костному пути. Для обеспечения локального антибактериального эффекта с гелем ковалентно связаны два антибиотика — амикацин и ванкомицин. Эти препараты высвобождаются из носителя только в момент бактериальной атаки имплантата под действием бактериальных ферментов, обеспечивая локальную концентрацию, в 200 раз превышающую бактерицидную. Общая схема дизайна биокомпозитных костнозамещающих материалов представлена на рис. 1.
Рис. 1. Общая схема дизайна биокомпозитных костнозамещающих материалов.
Fig. 1. General scheme of the design of biocomposite bone substitute materials.
На второй стадии исследования гели и все их компоненты полностью охарактеризовали с использованием широкого набора современных физико-химических методов анализа, затем лекарственными гелями пропитали предварительно отмытые костные блоки.
На третьей стадии антибактериальные, реологические и токсические свойства гелей определяли в контролируемом рандомизированном исследовании на культурах клеток по стандартным методикам.
На завершающей стадии проводили медико-биологическое контролируемое рандомизированное исследование эффективности биокомпозитных материалов, содержащих гели с лекарственной функцией, на модели экспериментального остеомиелита крыс.
Критерии соответствия
Критериями включения образцов биокомпозитных материалов в исследование на животных были низкая цитотоксичность, высокая антибактериальная активность и приемлемые механико-реологические свойства гелей с лекарственными функциями, использованных для их пропитки.
Условия проведения
Синтез и физико-химические исследования биокомпозитных материалов проводили в Российском химико-технологическом университете имени Д.И. Менделеева, Институте тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова. Исследования с использованием растровой электронной микроскопии проводили в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт». Синтез плазмид и цитологические исследования биокомпозитных материалов проводили в Институте цитологии Российской академии наук. Очистку костного матрикса и испытания на животных проводили по методикам, разработанным в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова. Медико-биологическое исследование проводилось на клинических базах ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова». В качестве экспериментальных животных в работе использовали самцов крысы линии Вистар массой ≈250–300 г.
Продолжительность исследования
Исследование проходило в течение 6 месяцев.
Описание медицинского вмешательства
Медико-биологическое исследование проводили по методике, описанной ранее [7, 11], на модели ортотопической имплантации (имплантация в костную перфорацию критического размера (2/3 диаметра) большеберцовой кости с предварительно сформированным гнойно-септическим воспалением — остеомиелитом). Использовали самцов крысы линии Вистар массой ≈250–300 г. Общее количество животных составило 10. Хирургические вмешательства проводили в асептических условиях под внутримышечной анестезией золетилом (7 мг/кг) и ксилазином (13 мг/кг). Полученные матриксы, покрытые гелями, содержащими антибактериальные субстанции, имплантировали в костную перфорацию большеберцовых костей с предварительно сформированным гнойно-септическим воспалением.
Формирование гнойно-септического воспаления проводили путём введения жизнеспособной (витальной) бактериальной культуры золотистого стафилококка Staphylococcus aureus 209P в концентрации 1,5×106 КОЕ в костномозговой канал перфорированной большеберцовой кости. Отверстие перед введением бактериальной культуры обрабатывали 96% спиртом. За развитием остеомиелита наблюдали с помощью прибора рентгеновской томографии.
Вторичные операции с имплантацией ксеногенных костных матриксов, содержащих антибактериальные субстанции, выполняли через 1 месяц после формирования гнойно-септического воспаления (остеомиелита). Для этого в большеберцовой кости по наружной поверхности высверливали несквозное отверстие. Подбирали размер костного матрикса таким образом, чтобы он плотно вставлялся в отверстия. Размер блоков матрикса составил примерно 4×2,5×1,5 мм. Опытные образцы костного матрикса, деминерализованные и недеминерализованные, были обработаны по методикам, описанным ниже. В качестве образцов сравнения использовали аналогичные матриксы без покрытия гелем. Сравнение проводили как на двух лапах одного животного, при этом в одну лапу имплантировали опытный образец, во вторую — контрольный, так и перекрёстно, когда в обеих лапах животного имплантируется только контрольный или только опытный образец [11].
ЯМР-спектроскопия
Спектры ЯМР регистрировали на приборе Bruker Avance 500 Spectrometer (Bruker, Швейцария) с рабочей частотой 500.13 МГц на ядрах 1H и 125.77 МГц на ядрах 13C. Химические сдвиги для сигналов в 1H и 13С спектрах определяли в шкале δ относительно внешнего ТМС в качестве стандарта. Для отнесения сигналов использовали методики 2D COSY, HMQC и HMBC, а также спектры записывали в режиме JMODECHO (J-модулированное спиновое эхо), позволяющем редактировать спектры ЯМР 13С. Все эксперименты 1D и 2D проводили при 298 K с использованием стандартной последовательности импульсов из базовой библиотеки программ компании Bruker. Отнесение полос в спектрах производили с применением программного обеспечения WIN NMR, ACDLabs и японской базы спектральных данных SDBS.
MALDI-TOF масс-спектроскопия
MALDI-TOF масс-спектры записывали с помощью прибора Ultraflex II (Bruker, Германия) в положительных ионах в рефлекторном режиме с ускоряющим напряжением 25 кВ, десорбцию осуществляли Nd:YAG-лазером, длина волны 355 нм, с использованием 1000-кратного избытка дигидроксибензойной кислоты в качестве матрицы.
Динамическое светорассеяние
Размер капель наноэмульсии гиалуроновой кислоты определяли методом динамического рассеивания света на анализаторе Photocor Complex. Длина волны лазера 635 нм, угол рассеивания — 90°.
Растровая электронная микроскопия
Исследование высушенных эмульсий методом растровой электронной микроскопии осуществляли с использованием высокоразрешающего двулучевого растрового электронного микроскопа FEI Scios при ускоряющем напряжении 1 кВ.
Очистка бычьего костного матрикса
Очистку блоков матрикса, полученного из спонгиозной кости быков голштинской породы, проводили по известной методике [12], разработанной в ЦИТО им. Н.Н. Приорова. Костные блоки размером 7×7×7 мм приобретены у компании «Владмива» (Белгород).
Приготовление деминерализованного костного матрикса
Деминерализованный костный матрикс готовили из блоков, отмытых от клеточных элементов и белковых загрязнений путём последовательной отмывки от минеральных солей в растворе соляной кислоты с последующей тщательной промывкой дистиллированной водой. Окончательную обработку осуществляли с использованием методики, описанной выше [12].
Получение биокомпозитов, пропитанных гелем с комплексной лекарственной функцией
Блоки отмытого костного матрикса (рис. 2, а, b) помещали в вакуумную ячейку, наполненную полисахаридным гелем с комплексной лекарственной функцией. Пропитку осуществляли путём многократного периодического вакуумирования с медленным перемешиванием магнитной мешалкой при комнатной температуре в течение 1 часа с последующим выдерживанием под вакуумом в течение 24 часов при комнатной температуре. Полученный биокомпозитный материал очищали диализом против дистиллированной воды, сушили лиофильно, стерилизовали окисью этилена и герметично упаковывали в стандартные пластиковые пакеты в стерильных условиях (рис. 2, c).
Рис. 2. а — блоки отмытой и деминерализованной спонгиозной и кортикальной кости, b — стерилизованный блок отмытой спонгиозной кости и его микроструктура, с — лиофилизованный и стерилизованный блок спонгиозной кости, пропитанный гелем с фармсубстанциями, и его микроструктура.
Fig. 2. a — blocks of washed and demineralized spongy and cortical bone, b — sterilized block of washed spongy bone and its microstructure, c — lyophilized and sterilized block of spongy bone impregnated with a gel containing pharmaceutical substances, and its microstructure.
Антимикробная активность гелей
Для определения антимикробной активности геля и биокомпозитов, способных к высвобождению физиологически активных веществ, под влиянием ферментов бактерий использовали метод дисковой диффузии. Эксперимент проводили в течение недели. Инокуляция проводилась культурой бактерий Staphylococcus aureus 209P в концентрации 4×106 КОЕ/мл.
Культуру Staphylococcus aureus 209P готовили путём инокуляции 4–5 морфологически сходных колоний из чистой бактериальной культуры в свежую жидкую питательную среду через стерилизованную проволочную петлю. Жидкую среду инкубировали до достижения концентрации 106 КОЕ/мл.
Минимальную ингибирующую концентрацию препаратов против бактерий Staphylococcus aureus 209P изучали методом серийных разведений в жидких средах. Исследование выполнялось при помощи 96-луночного планшета. В питательную среду бульон Мюллера–Хинтона, произведённую компанией HiMedia Laboratories (Индия), вносили инокулят культуры и инкубировали в термостатируемом шейкере Thermo-Shaker PST-60Hl-4, BioSan, при 320 об/ мин при 37 °С в течение 24 часов. В лунки планшета вносили 50 мкл культуры и 50 мкл исследуемых образцов, разведённых в стерильной питательной среде. Через каждые 2 часа проводили измерения оптической плотности при длине волны 505 нм на фотометре для микропланшетов iMark фирмы Bio-Rad Lab. Inc. (СШA) в течение 48 часов. Концентрации исследуемых образцов уменьшались в диапазоне от 500 до 0,05 мкг/мл соответственно.
Антибактериальную активность гелей и биокомпозитных костнозамещающих материалов против бактерий Staphylococcus aureus 209P изучали методом колодцев. Для определения чувствительности тест-систем к исследуемым образцам использовалась стандартная среда — агар Мюллера–Хинтона, произведённая компанией HiMedia Laboratories (Индия).
Предварительно на поверхность агаризованной среды помещали полый цилиндр диаметром 8,0 мм, что позволило создать колодцы заданной глубины и диаметра. После засева в колодцы помещался исследуемый раствор объёмом 100 мкл. В качестве объекта сравнения использовался стерильный физиологический раствор.
После помещения образцов на среду, засеянную клетками, чашки помещали в термостат и инкубировали в течение заданного времени при 37 °С, затем замеряли размер зоны задержки роста. При измерении рассматривали только полное ингибирование видимого роста.
Цитотоксичность гелей
Цитотоксичность измеряли на культуре тканей HEK 293T. Для анализа цитотоксичности гелей клетки HEK 293T выращивали на среде DMEM c высоким содержанием глюкозы с добавлением 10% фетальной бычьей сыворотки. HEK 293T снимали с подложки с помощью 0,25% раствора трипсина, рассевали на 24-луночный планшет в концентрации 5×105 кл/мл и инкубировали 24 часа при 37 °С и 5% CO2.
В лунки планшета, в которых находилось по 1 мл питательной среды, добавляли суспензию геля в разных концентрациях в диапазоне от 12 000 до 500 мкг/мл. Такие разведения были использованы для всех экспериментальных образцов. Клетки с образцами инкубировали в течение 24 часов при 37 °С и 5% CO2 и проводили визуальную оценку состояния клеток с использованием инвертированного микроскопа. Соотношение живых и мёртвых клеток определяли окраской трипановым синим.
Основной исход исследования
Основным исходом исследования были томографические исследования экспериментальных животных и морфологическое изучение образцов тканей из места имплантации блоков костнозамещающего материала.
Методы регистрации исходов
Компьютерная томография
Компьютерную томографию животных и образцов кости проводили на рентгеновском микротомографе Bruker Sky-Scan 1178 (Бельгия) при напряжении 65 кВ и токе 615 Ма, с фильтром Al 0,5 мм. Пространственное разрешение составляло 84 микрона/пиксель. Реконструкцию срезов проводили с использованием программного обеспечения NRecon v1.6.10.4, 3D-реконструкцию — с использованием программного обеспечения CTV-0l. Для проведения сравнения результатов экспериментов в разных группах применяли балльную шкалу оценки результатов, аналогичную шкале Norden [13].
Морфологическое исследование образцов
Для морфологического исследования образцы фиксировали в нейтральном формалине, декальцинировали, обезвоживали, заливали в парафин, получали срезы толщиной 4 микрона, окрашивали гематоксилином-эозином и пикросириусом красным («БиоВитрум», Россия). Препараты изучали методом световой просвечивающей микроскопии в режимах светлого поля, фазового контраста и поляризации. Исследования проводили с использованием микроскопа Leica DM 4000 B LED с камерой Leica DFC 7000 T. Стандартное увеличение — 200-кратное.
Для проведения сравнения результатов экспериментов была применена балльная шкала оценки результатов, аналогичная шкале Smeltzer [14].
Этическая экспертиза
Все хирургические процедуры и условия содержания животных соответствовали этическим правилам проведения экспериментов с животными, включая Европейскую директиву FELASA-2010. Протокол заседания Локально-этического комитета ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова» Минздрава России по медицинской и биологической этике № 5 от 12 мая 2021 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Поры костных имплантатов пропитаны полисахаридным гелем, содержащим два антибиотика — ванкомицин и амикацин, связанные ковалентно с гелем. Кроме того, в состав входит нестероидное противовоспалительное средство теноксикам, помещённое в нанокорпускулярную систему его целевого транспорта в фагоцитирующие клетки на основе гелевых наночастиц гиалуроновой кислоты, а также плазмиды, на которых в живых клетках синтезируется костный морфогенетический белок КМБ-2, стимулирующий дифференциацию клеток по костному пути. Плазмиды инкапсулированы в специальную нанокорпускулярную транспортную систему, позволяющую доставлять их в нефагоцитирующие клетки путём слияния мембран.
В качестве полимерной основы для гелевого носителя лекарств использованы два известных нетоксичных полисахарида — диальдегидкарбоксиметилцеллюлоза (ДАКМЦ) [15–21], полученная методом периодатного окисления по реакции Малапрада (см. рис. 1) из карбоксиметилцеллюлозы фармакологического качества, и сшитый эпихлоргидрином декстран (рис. 3) [22], широко применяющийся при изготовлении клинического кровезаменителя «Полиглюкин». В качестве основы нанокорпускулярной транспортной системы доставки теноксикама использованы гелевые наночастицы гиалуроновой кислоты (ГК).
Рис. 3. Биосовместимые полисахариды, использованные при синтезе гелей с комплексной лекарственной функцией: a — диальдегидкарбоксиметилцеллюлоза, b — сшитый декстран, c — гиалуроновая кислота.
Fig. 3. Biocompatible polysaccharides used in the synthesis of gels with a complex therapeutic function: a — dialdehyde carboxymethyl cellulose, b — crosslinked dextran, c — hyaluronic acid.
Выбор полимеров не случаен. Все они водорастворимы, безопасны для применения в контакте с кровью, биосовместимы и биоразлагаемы. Хлороксипропильные и альдегидные группы, образующиеся в макромолекулах на стадии синтеза геля, являются удобными местами связывания физиологически активных веществ, после чего превращаются в остатки нетоксичных многоатомных спиртов. Гиалуроновая кислота используется для тканезамещения и является компонентом межклеточного матрикса [23–25].
Антибактериальные свойства имплантата обеспечены наличием в нём пары антибиотиков с разным спектром действия — ванкомицина и амикацина, причём один грамм полимера-носителя, образующего гель, содержит по 250 мг каждого из них. Присутствие двух антибиотиков снижает риск развития мультирезистентности штаммов. Оба вещества связаны ковалентно с основной цепью полисахарида. Циклические соединения, образующиеся при замыкании окисленных звеньев в полуацетальные циклы и при взаимодействии альдегидных групп носителя с аминогруппами антибиотика, достаточно устойчивы (рис. 4) [21], однако способны к гидролизу при закислении, вызванном локальным воспалением вследствие бактериальной атаки имплантата (см. рис. 3).
Рис. 4. Схемы выделения антибиотиков из гелей с комплексной лекарственной функцией: a — гидролиз связи «антибиотик — диальдегидкарбоксиметилцеллюлоза» при закислении в очаге инфекции, b — ферментативный гидролиз основной цепи полимера-носителя с выделением антибиотика в месте бактериальной атаки.
Fig. 4. Mechanisms of antibiotic release from gels with a complex therapeutic function: a — hydrolysis of the antibiotic–DACMC bond under acidic conditions at the site of infection, b — enzymatic hydrolysis of the main chain of the carrier polymer, resulting in antibiotic release at the site of bacterial invasion.
Кроме того, ацетальные связи основной цепи гидролизуются ферментативно целлюлазой бактерий. Минимальная ингибирующая концентрация геля, набухшего в физиологическом растворе, измеренная на тест-штамме Staphylococcus aureus 209P, составляет 25 мкг/мл, бактерицидная концентрация — 100 мкг/мл. Это позволяет добиться высокой локальной концентрации антибиотика в месте бактериальной атаки, в 200 раз превышающей искомую бактерицидную. При этом следует отметить, что реализация локального биоцидного действия протекает исключительно при контакте с бактериальной культурой и в строго ограниченной контактной области. Это позволяет избежать произвольного медленного выделения антибиотика из геля, повышающего риск развития резистентных штаммов [26].
Взаимодействие имплантата с окружающими тканями во многом определяется его механическими свойствами, в особенности реологией взаимодействия поверхностного слоя жёсткого костного имплантата и межклеточного матрикса мягких тканей. Игнорирование этих взаимодействий может вызывать развитие тяжёлых осложнений, вплоть до фибросаркомы [27]. Плотность геля и, соответственно, его механические свойства изменяются при увеличении концентрации в нём полимера и густоты сшивки соседних полисахаридных цепей. Реологические свойства контролировали, измеряя модуль накопления G’, отражающий эластичность геля, модуль потерь G”, определяющий способность геля к необратимым пластическим деформациям, и их отношение tg δ=G”/G’. Требовалось определить интервал плотностей геля, при которых он устойчив в условиях, моделирующих межклеточную жидкость мягких тканей, не синергирует, обладает текучестью, позволяющей заполнить поры кости, и имеет приемлемые реологические свойства G’=150–350 кПа, G”=25–45 кПа, tg δ=0,07–0,3, типичные для гелевых тканезамещающих препаратов, используемых в пластической хирургии [28, 29]. Такой интервал соответствует концентрациям полисахарида в геле от 175 до 225 мг/мл (табл. 1).
Таблица 1. Реологические свойства гелей с комплексной лекарственной функцией, зависимость модуля накопления G’ и модуля потерь G” от плотности геля
Table 1. Rheological properties of gels with multifunctional pharmacological activity: dependence of storage modulus G’ and loss modulus G” on gel density
Содержание полимера в геле*, %масс | G’, кПа | G”, кПа | MC, кДа | η, кПа*с | tg δ | q |
17,5 | 175,8 | 4,17 | 15,33 | 4,17 | 0,0237 | 3,26 |
20,0 | 232,4 | 3,19 | 11,6 | 5,45 | 0,0137 | 4,31 |
22,5 | 271,1 | 3,72 | 9,94 | 6,03 | 0,0137 | 5,03 |
Примечание. * во всех типах геля содержание сшивающего агента эквимольно по отношению к количеству добавленного декстрана. G’ — модуль накопления, описывающий способность геля к обратимой эластической деформации, G” — модуль потерь, описывающий способность геля к необратимой пластической деформации, MС — средняя молекулярная масса сегмента между сшивками, η — динамическая вязкость, tg δ — отношение G’/G”, q — плотность сшивки, вычисляемая как усреднённое количество сшивок на макромолекулу полимера.
Важным аспектом является контроль за локальным воспалением. Для этого в имплантат ввели нестероидное противовоспалительное средство — теноксикам 0,28 мг/г геля. Его доставку внутрь иммунокомпетентных клеток, окружающих имплантат, обеспечивает система внутриклеточной доставки лекарств в активно фагоцитирующие клетки с последующим снижением их активности.
Система представляет собой гелевые наночастицы гиалуроновой кислоты, химически сшитой диглицидиловым эфиром бутиленгликоля. Она синтезирована на основе наноэмульсии гиалуроновой кислоты, содержащей растворённый теноксикам [30–33]. Наиболее эффективны системы доставки, имеющие бимодальное распределение наноэмульсии по размерам. Мелкие частицы с размером около 100 нм активно поглощаются микрофагами ретикулоэндотелиальной системы, более крупные, микронного размера, — макрофагами. Бимодальность размеров носителей позволяет воздействовать на весь спектр фагоцитирующих клеток (рис. 5).
Рис. 5. Распределение частиц наноэмульсии гиалуроновой кислоты по их размерам в полисахаридном геле.
Fig. 5. Size distribution of hyaluronic acid nanoemulsion particles in a polysaccharide gel.
Ключевым вопросом является поиск эффективных подходов к стимулированию локального роста костной ткани в месте её потери в результате травм или гнойно-септических воспалений. К сожалению, этот вопрос не решён до настоящего времени. Наиболее перспективным направлением исследований следует признать использование интерлейкинов класса КМБ (костный морфогенетический белок), стимулирующих накопление остеобластов в месте травмы в результате направленной дифференцировки клеток по костному пути развития [34]. В ряде случаев инъекции КМБ-2 в место перелома шейки бедра позволяют добиться сращения костей даже у пожилых пациенток [35]. Несмотря на чрезвычайно низкие эффективные локальную действующую концентрацию и дозы, характерные для интерлейкинов [34], их широкому эффективному применению препятствуют низкая гидролитическая стабильность, иммуногенность, быстрое разрушение в организме и трудность локального накопления и удерживания. КМБ-2 — это белок с молекулярной массой около 45 кДа. Даже единичное расщепление огромной макромолекулы может приводить к потере активности. Кроме того, препарат легко покидает место перелома в результате вымывания, что не только снижает его локальную концентрацию, но и способствует неконтролируемому росту костной ткани вне места перелома [36].
Значительно повысить эффективность интерлейкинов можно, если классический подход к лечению путём введения в организм готового белкового препарата заменить на более прогрессивный, используемый и в генной терапии, скопированный с механизма размножения вирусов. В этом случае белок — лекарство, которое синтезируется рибосомами живых клеток организма, находящихся в месте перелома, с использованием генного материала — плазмид, кодирующих синтез КМБ-2. Однако на пути использования генно-инженерных подходов в практической медицине остаётся целый ряд нерешённых проблем, связанных с внутриклеточной доставкой весьма химически нестойких ДНК, в особенности матричных РНК. Обычные механизмы фаго- и пиноцитоза для них в большинстве случаев не годятся из-за дезактивации плазмид в фагосомах лизосомальными ферментами клеток. Чаще всего при работе с клеточными культурами используются поликатионные агенты трансфекции, такие как полиэтиленимин и диэтиламиноэтилдекстран. Это связано с тем, что ДНК несёт отрицательный заряд. Интерполимерные комплексы агентов трансфекции с ДНК проникают в клетки и переносятся внутрь эндосом и лизосом [35]. Избыточное количество внесённого поликатиона, скорее всего, помогает выходу ДНК из эндосом. Благодаря высокой концентрации аминогрупп в макромолекулах агентов трансфекции они сорбируют соли и повышают концентрацию ионов в эндосомах (так называемый эффект протонной губки), что вызывает их разбухание и разрушение за счёт повышения внутреннего осмотического давления или вследствие разрыва мембран везикул положительно заряжёнными молекулами поликатионов [37]. Временный разрыв мембран позволяет плазмидам проникать в образующиеся поры, минуя механизмы фаго- и пиноцитоза, а внутри клетки переходить из эндосом на рибосомы, синтезирующие белок, шероховатого эндоплазматического ретикулума. Второй подход, обеспечивающий внутриклеточную доставку ДНК, предусматривает инкапсулирование плазмид в липосомы, способные сливаться с мембраной клетки и «впрыскивать» их внутрь неповреждёнными [38]. Оба способа разработаны для использования методов генной инженерии применительно к культурам клеток, но неприменимы в практической медицине и в экспериментах in vivo. Агенты трансфекции чрезвычайно токсичны и неселективны в разрушении мембран многоклеточных организмов. Липосомы же обладают способностью обмениваться содержимым друг с другом и с окружающей жидкостью и вследствие этого доставляют внутрь клеток отнюдь не те вещества, которыми были загружены изначально [27]. Если при работе с клеточными культурами в чистых питательных средах это не критично, то для инъекций в ткани животных они непригодны.
В настоящей работе для трансмембранного транспорта КМБ-кодирующих плазмид использовали специально созданную многослойную нанокорпускулярную транспортную систему (рис. 6).
Рис. 6. Схематическое изображение нанокорпускулярной транспортной системы для внутриклеточной доставки плазмид проникающей внутрь клетки за счёт механизма слияния мембран: a — внешняя пористая стенка из гребнеобразного полисахаридного полимера, b — гелевое ядро с растворённой плазмидой.
Fig. 6. Schematic representation of a nanocorpuscular transport system for intracellular plasmid delivery via the membrane fusion mechanism: a — external porous wall composed of a comb-like polysaccharide polymer, b — gel core containing the dissolved plasmid.
Для проникновения в клетку, помимо состава поверхности капсул, принципиальным является их размер, который определяет механизм проникновения в клетку. Недавние исследования амфифильных частиц на основе поливинилпирролидона показали, что частицы размером менее 100 нм способны проникать через плазмолемму в обход фаго- и пиноцитоза [39, 40]. В настоящей работе средний диаметр полученных многослойных нанокапсул составляет 50–100 нм. При этом они не являются везикулами. Внешний пористый слой сформирован из гребнеобразного сополимера полисахарида декстрана с полиэтил-2-цианакрилатом [41], способного эффективно взаимодействовать с плазмолеммой и выполнять роль агента трансфекции, оставаясь связанным ковалентно с поверхностью транспортных нанокапсул (рис. 7).
Рис. 7. Гребнеобразный сополимер декстрана с полиэтил-2-цианакрилатом и схема его взаимодействия с билипидной мембраной клетки.
Fig. 7. Comb-shaped dextran copolymer with poly(ethyl-2-cyanoacrylate) and schematic representation of its interaction with the bilayer lipid membrane of the cell.
Гелевое ядро капсул сформировано из декстранового геля, содержащего КМБ-2-кодирующую плазмиду. Её концентрация в пересчёте на объём набухшего геля внутри капсул составляет 12,83 нг/мкл, общая концентрация в набухшем полисахаридном геле — 0,6 нг/мкл. Несмотря на наличие в композиции агента трансфекции, цитотоксичность в пересчёте на сухой гель составляет 1800 мкг/ мл. Минимальная ингибирующая концентрация против Staphylococcus aureus 209P составляет 25 мкг/мл, бактерицидная концентрация — 100 мкг/мл. Состав геля с лекарственной функцией представлен в табл. 2.
Таблица 2. Состав геля с лекарственной функцией
Table 2. The composition of the gel with pharmacological activity
Параметр | Декстран | ДАКМЦ | Ванкомицин | Амикацин | Наночастицы гиалуроновой кислоты | Наночастицы полиэтил-цианакрилата | Плазмида | Теноксикам |
Содержание сухого вещества в геле, мг/мл | 100 | 25 | 25 | 25 | 2,5 | 1,3 | 12,83х10-3 | 1 |
Размер частиц, нм (%) | – | – | – | – | 100 (40) 10 000 (60) | – | – | – |
Теноксикама в частицах, мг/мл | – | – | – | – | – | – | – | 0,28 |
Плазмиды в частицах, нг/мкл | – | – | – | – | – | – | 12,83 | – |
Примечание. ДАКМЦ — диальдегидкарбоксиметилцеллюлоза.
Химическое строение полимеров изучали с использованием спектроскопии ЯМР 13С и масс-спектрометрии MALDI-TOF. Цитотоксичность и антибактериальную активность геля и биокомпозитов изучали in vitro на культуре клеток HEK 293T и штамме бактерий Staphylococcus aureus 209P соответственно. Эффективность синтезированного биокомпозита при лечении экспериментального остеомиелита, осложнённого потерей костной ткани, изучали in vivo на моделях критического анастомоза и гнойно-септического воспаления большеберцовой кости крысы.
Антимикробная активность композита и геля в опытах in vitro
Выделение двух антибиотиков локализовано в месте действия бактерий и прекращается по мере гибели микроорганизмов. В обоих случаях наблюдается высокая активность образцов к культуре Staphylococcus aureus 209P.
Результаты испытаний антимикробной активности гелей, содержащих амикацин и ванкомицин, присоединённые ковалентно к полисахаридному гелю, продемонстрировали высокую антибактериальную активность. Их совместное синергическое действие увеличивает общую антибактериальную активность в 6 раз. За результатом ингибирования роста бактерий наблюдали в течение недели (табл. 3).
Таблица 3. Результаты исследования антимикробной активности геля и биокомпозита
Table 3. Results of the study on the antimicrobial activity of the gel and biocomposite
Образец | Диаметр зоны задержки роста, мм | Результат | |||
24 ч | 48 ч | 96 ч | 168 ч | ||
Смесь амикацин/ванкомицин 1/1 (0,0125 г/мл) | 38 | 50 | 50 | 50 | Высокочувствителен |
Гель | 57 | 58 | 58 | 58 | Высокочувствителен |
Биокомпозит на основе отмытого костного матрикса | 28 | 39 | 40 | 34 | Высокочувствителен |
В обоих случаях наблюдается увеличение зоны задержки роста исследуемой культуры. Антибиотик диффундирует из геля и биокомпозита, формируя вокруг зону угнетения роста чувствительных к нему микроорганизмов. Наличие этой зоны чётко прослеживается на фоне сплошного роста культуры микроорганизмов (рис. 8).
Рис. 8. Зоны ингибирования роста культуры бактерий Staphylococcus aureus 209P: a — гель, b — биокомпозит, пропитанный гелем.
Fig. 8. Growth inhibition zones of Staphylococcus aureus 209P bacterial culture: a — gel, b — biocomposite impregnated with the gel.
Сформированное гнойно-септическое воспаление до начала лечения
Результаты обследований животных до начала лечения свидетельствуют о гнойно-септическом воспалении, которое развилось у крыс к 30-м суткам, с помощью инокуляции чистой культуры Staphylococcus aureus 209P. Оно представляет собой тяжёлую, быстро прогрессирующую гнойную инфекцию — остеомиелит, приводящий к обширному разрушению кости с образованием секвестров.
Анализ мазков, полученных с мест инокуляции, подтвердил присутствие штаммов Staphylococcus aureus в образцах контрольного заражения как на 14-е, так и на 30-е сутки наблюдения. Полученные данные свидетельствуют об успешности моделирования гнойно-септического очага инфильтрации и о сложности или невозможности организма модельного объекта к самостоятельному излечению.
Гистологические исследования сформированного гнойно-септического воспаления в большинстве биоптатов демонстрируют скопление фибринозного экссудата с воспалительным инфильтратом (лимфоциты и макрофаги с примесью нейтрофилов), в котором отмечаются многочисленные фрагменты некротизированной кости с разной степенью разрушения структуры.
Результаты томографического исследования животных до начала лечения продемонстрировали сохранение сформированной костной перфорации, выраженный гиперостоз ткани по периферии дефекта. Во всех случаях наблюдается уменьшение размеров дефекта преимущественно с краёв, при этом нарушений в смежных сегментах, а также экзостозов не наблюдается, что характерно для остеомиелита.
Способность костнозамещающего композита с лекарственной функцией вызывать регенерацию костной ткани в опыте in vivo на модели гнойно-септического воспаления большеберцовой кости крысы
Исследования проводили с использованием блоков спонгиозной кости отмытого бычьего костного матрикса без пропитки гелем в качестве эталона сравнения, как описано выше.
Томографическое исследование контрольных и опытных образцов
Томографическое исследование контрольных и опытных образцов проводили сразу после операции по имплантации и в сроки 2,5, 4 и 9 недель после неё. У большинства животных гнойное воспаление в конечностях, в которые были имплантированы эталоны сравнения, продолжало развиваться, что приводило к перелому в сроки от 2,5 до 4 недель после имплантации блоков отмытого бычьего костного матрикса без пропитки гелем.
На снимках большеберцовых костей крыс, в которые имплантирован биокомпозит с лекарственной функцией, на всех сроках после имплантации наблюдались линейное закрытие дефекта с увеличением костного вещества в костной ткани и резорбция материала. На сроке в 9 недель имплантат не определялся у всех животных и на рентгеновских снимках наблюдались признаки практически полного закрытия дефекта.
Микробиологическое исследование
В мазках, взятых с участков имплантации экспериментальных биокомпозитных блоков с лекарственными свойствами, не было обнаружено наличия контаминантов, при этом материал сохранял способность подавлять рост бактерий. В то же время мазки контрольной группы образцов, не содержащих в своём составе биополимерный гель, обнаруживали присутствие штаммов Staphylococcus aureus со сниженным титром даже после лечения животных инъекциями ванкомицина.
Гистологические исследования
Через 4 недели после введения очищенного костного матрикса без лекарственной функции в зону перелома наблюдались умеренные признаки остеорегенерации в области дефекта. Острые воспалительные процессы, так же как и некротизированные участки кости, отсутствовали, однако были выявлены признаки хронического воспаления, сопровождающиеся формированием фиброзных структур. Остатки имплантата сохранялись в отдельных участках, окружённых соединительнотканными элементами с инфильтрацией лимфоцитами и макрофагами. На сроке в 9 недель в месте перелома было отмечено образование фибринового экссудата с высоким содержанием нейтрофильных гранулоцитов и некротических участков костной ткани. Остеогенез значительно замедлился по сравнению с предыдущим периодом наблюдения.
В экспериментальных образцах, взятых из зоны дефекта, где был имплантирован композит с фармакологической активностью, через 4 недели после имплантации были обнаружены участки некротизированной костной ткани, окружённые фиброзными структурами с умеренной инфильтрацией макрофагов. Отмечалась интенсивная остеорегенерация. Спустя 9 недель в зоне дефекта наблюдался выраженный фиброз с умеренным лимфо-макрофагальным воспалительным процессом, при этом в гистологическом срезе присутствовал незначительный участок некротической костной ткани. Остеогенез оставался значительным.
Способность костнозамещающего композита с лекарственной функцией вызывать регенерацию костной ткани в опыте in vivo на модели критического анастомоза большеберцовой кости крысы
Трепанационные отверстия высверливали в проксимальном отделе бедренной кости диаметром 2,7 мм по наружной поверхности, матриксы вырезали по форме дефекта, увлажняли физраствором и имплантировали в отверстие. Исследования проводили с использованием блоков спонгиозной кости отмытого бычьего костного матрикса без пропитки гелем в качестве эталона сравнения. Эксперимент проводили на 6 крысах. Каждому животному в правую большеберцовую кость (положение на животе) имплантировали опытный образец, в левую — эталон сравнения. Через 28 суток животных выводили из эксперимента. Образцы материала из области имплантации фиксировали в нейтральном формалине, декальцинировали, обезвоживали, заливали в парафин, получали срезы толщиной 4 микрона, окрашивали гематоксилином-эозином. Гистологические препараты изучали с применением светлопольной и фазово-контрастной микроскопии.
Результаты гистологических исследований контрольных образцов с имплантированными блоками отмытой бычьей кости
В зоне поражения исследуемых образцов выявлены компоненты имплантата, представленные пористыми костными трабекулами с вакуолями и тонкими волокнами костного матрикса, окружёнными рыхлой соединительной тканью с высокой концентрацией лимфоцитов и макрофагов. В большинстве контрольных образцов зафиксированы лишь незначительные участки неоостеогенеза, активные процессы регенерации костной ткани отсутствуют.
В большинстве проанализированных контрольных образцов костной ткани в области поражения выявлены секвестры некротизированной костной ткани, окружённые нейтрофильной воспалительной инфильтрацией, а также участки фиброзной ткани с ярко выраженной макрофагальной инфильтрацией. Наблюдается начальная стадия формирования абсцесса. Регенерирующаяся ретикулофиброзная (грубоволокнистая) костная ткань, образующая губчатое вещество, формировалась как из ретикулярной соединительной ткани, так и путём энхондрального окостенения. Поверхность трабекул губчатого вещества покрыта незначительным количеством остеобластов; межтрабекулярные пространства заполнены рыхлой волокнистой соединительной тканью. Прослеживаются умеренно активная остеогенная активность, увеличение объёма соединительной ткани, начальные стадии формирования абсцесса.
Результаты гистологических исследований опытных образцов с имплантированными блоками костнозамещающего композита с лекарственной функцией, содержащего КМБ-2-кодирующие плазмиды
В образцах с повреждениями наблюдалось активное восстановление костной ткани, которое происходило посредством двух механизмов: трансформации соединительнотканных структур и хондрогенного остеогенеза. Формирование костных трабекул осуществлялось за счёт активности остеобластов, ответственных за синтез и ремоделирование костного матрикса. Межтрабекулярные пространства были заполнены рыхлой тканью, богатой сосудистыми элементами, что свидетельствует о выраженной ангиогенной активности. Внутрикостное воспаление имело низкую степень выраженности либо полностью отсутствовало. Во всех исследуемых образцах отсутствовали признаки образования абсцессов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложен подход к методике лечения гнойно-септических воспалений, осложнённых потерей костной ткани, с использованием биокомпозитных костных имплантатов на основе матрикса отмытой бычьей спонгиозной кости, обладающих комплексной лекарственной функцией и содержащих плазмиду, кодирующую КМБ-2. Эффективность подхода продемонстрирована в опытах in vitro и в экспериментах на животных с использованием моделей гнойно-септического воспаления большеберцовой кости крысы и критического анастомоза.
В области имплантации биокомпозитов с лекарственной функцией наблюдаются мощный остеогенез и существенное ослабление воспалительной инфильтрации. Кроме того, отмечен усиленный васкулогенез в межтрабекулярных пространствах костного регенерата. Образцы обладают высокой антибактериальной активностью против Staphylococcus aureus, причём выделение антибиотика происходит локально под действием ферментов бактерий. Синтезированные материалы могут быть использованы при получении костнозамещающих имплантатов с собственной антибактериальной, противовоспалительной и костно-регенерирующей активностью при патологиях, связанных с потерей костной ткани, в том числе для лечения остеомиелита.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вклад авторов. Дятлов В.А. — разработка общей концепции исследования и методов синтеза анализа и испытаний гелевых препаратов, написание текста и редактирование статьи; Серёгина Т.С. — синтез и анализ гелевых препаратов, содержащих плазмиды, антибиотики и теноксикам, приготовление костных имплантатов написание текста и редактирование статьи; Беляева А.А. — синтез КБМ-кодирующих плазмид, написание текста и редактирование статьи; Малашичева А.Б. — разработка концепции включения плазмид в средства внутриклеточной доставки, написание текста статьи; Ветрилэ М.С. — разработка общей концепции исследования и методов исследования эффективности имплантатов в лечении остеомиелита и критических травм, написание текста и редактирование статьи; Ванюшенкова А.А. — разработка общей концепции и проведение микробиологических исследований, исследования антимикробной активности гелевых препаратов, анализ гистологии, написание текста и редактирование статьи; Костандян Е.С. — синтез гелей, содержащих теноксикам и гелевые наночастицы гиалуроновой кислоты; Сульповар М.Л. — написание текста и редактирование статьи; Григорьев Ю.В. — проведение исследований систем внутриклеточной доставки методом растровой электронной микроскопии; Кордюкова А.П. — синтез гелей и пропитка костных имплантатов, редактирование статьи; Дятлов А.В. — сбор и анализ литературных источников, обзор литературы, разработка методов синтеза и способов внутриклеточной доставки инкапсулированных лекарств, обсуждение результатов, разработка концепции исследования, написание и редактирование статьи. Все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией.
Этическая экспертиза. Все хирургические процедуры и условия содержания животных соответствовали этическим правилам проведения экспериментов с животными, включая Европейскую директиву FELASA-2010. Протокол заседания Локально-этического комитета ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова» Минздрава России по медицинской и биологической этике № 5 от 12 мая 2021 года.
Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования и подготовке публикации. В части электронной микроскопии работа выполнена с использованием оборудования ЦКП «Структурная диагностика материалов» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках Государственного задания Курчатовского комплекса кристаллографии и фотоники НИЦ «Курчатовский институт».
Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов (личных, профессиональных или финансовых), связанных с третьими лицами (коммерческими, некоммерческими, частными), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи, а также иных отношений, деятельности и интересов за последние три года, о которых необходимо сообщить.
Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, данные).
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два внешних рецензента, член редакционной коллегии и научный редактор издания.
Благодарности. Авторы выражают благодарность Ю.С. Лукиной, Д.В. Cмоленцеву, Л.Л. Бионышеву-Абрамову за проведение ряда биологических испытаний имплантатов в соответствии с опубликованными ранее протоколами, ссылки на которые указаны в статье.
ADDITIONAL INFORMATION
Author contributions: V.A. Dyatlov: conceptualization, methodology, writing—original draft, writing—review & editing; T.S. Seregina: investigation, writing—original draft, writing—review & editing; A.A. Belyaeva: investigation, writing—original draft, writing—review & editing; A.B. Malashicheva: conceptualization, writing—original draft; M.S. Vetrile: conceptualization, methodology, writing—original draft, writing—review & editing; A.A. Vanyushenkova: conceptualization, investigation, writing—original draft, writing—review & editing; E.S. Kostandyan: investigation; M.L. Sulpovar: writing—original draft, writing—review & editing; Yu.V. Grigoriev: investigation; A.P. Kordyukova: investigation, writing—review & editing; A.V. Dyatlov: investigation, methodology, conceptualization, writing—original draft, writing—review & editing. All authors made substantial contributions to the conceptualization, investigation, and manuscript preparation, and reviewed and approved the final version prior to publication.
Ethics approval: All surgical procedures and animal housing conditions complied with ethical standards for animal experimentation, including the FELASA 2010 European Directive. The study was approved by the Local Ethics Committee of the Federal State Budgetary Institution N.N. Priorov National Medical Research Center of Traumatology and Orthopedics of the Ministry of Health of the Russian Federation, Protocol No. 5 dated May 12, 2021.
Funding sources: The authors declare that no external funding was received for conducting the study or publishing the article. The electron microscopy studies were performed using the facilities of the Shared Research Center Structural Diagnostics of Materials with the support of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation under the State Assignment to the Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics, National Research Center Kurchatov Institute.
Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities, or interests (personal, professional, or financial) related to for-profit, not-for-profit, or private third parties whose interests may be affected by the content of the article, as well as no other relationships, activities, or interests in the past three years to disclose.
Statement of originality: No previously published material (text, or data) was used in this article.
Generative AI: No generative artificial intelligence technologies were used to prepare this article.
Provenance and peer-review: This paper was submitted unsolicited and reviewed following the standard procedure. The peer review process involved two external reviewers, a member of the editorial board, and the in-house scientific editor.
Acknowledgments: The authors express their gratitude to Yu.S. Lukina, D.V. Smolentsev, and L.L. Bionyshev-Abramov for conducting a series of biological tests of the implants in accordance with previously published protocols referenced in the article.
作者简介
Valery Dyatlov
Mendeleev University of Chemical Technology of Russia; RTU MIREA
Email: dyatlov.va@muctr.ru
ORCID iD: 0000-0002-5595-1554
SPIN 代码: 9295-7300
Dr. Sci. (Chemistry), Professor; Lomonosov Institute of Fine Chemical Technologies — RTU MIREA
俄罗斯联邦, Moscow; MoscowTatyana Seregina
Mendeleev University of Chemical Technology of Russia
Email: tatiana.seregina.2016@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-7161-1691
SPIN 代码: 4657-6816
俄罗斯联邦, Moscow
Anna Belyaeva
Institute of Cytology Russian Academy of Sciences
Email: anna.myruleva.a@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-8816-1065
俄罗斯联邦, St. Petersburg
Anna Malashiceva
Institute of Cytology Russian Academy of Sciences
Email: аmalashicheva@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-0820-2913
SPIN 代码: 6053-2075
俄罗斯联邦, St. Petersburg
Marchel Vetrile
Priorov National Medical Research Center of Traumatology and Orthopedics
Email: vetrilams@cito-priorov.ru
ORCID iD: 0000-0001-6689-5220
SPIN 代码: 9690-5117
俄罗斯联邦, Moscow
Anna Vaniushenkova
Mendeleev University of Chemical Technology of Russia
Email: avaniushenkova@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-4007-0233
SPIN 代码: 4370-2518
俄罗斯联邦, Moscow
Eva Kostandyan
Mendeleev University of Chemical Technology of Russia
Email: eva.kostandyan@yandex.ru
ORCID iD: 0009-0007-9245-4163
SPIN 代码: 6081-9545
俄罗斯联邦, Moscow
Mikhail Sulpovar
Mendeleev University of Chemical Technology of Russia
Email: sulpovar.misha@mail.ru
ORCID iD: 0009-0000-8102-428X
SPIN 代码: 9036-8433
俄罗斯联邦, Moscow
Yuri Grigoriev
National Research Center “Kurchatov Institute”
Email: ygrigoriev@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-2358-0784
SPIN 代码: 2588-5313
Cand. Sci. (Physics and Mathematics)
俄罗斯联邦, MoscowAnna Kordyukova
Mendeleev University of Chemical Technology of Russia
编辑信件的主要联系方式.
Email: annakordukova2002@gmail.com
ORCID iD: 0009-0000-1727-249X
SPIN 代码: 5026-0314
俄罗斯联邦, Moscow
Alexander Dyatlov
Mendeleev University of Chemical Technology of Russia
Email: alexander.dyatlov7@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-9206-0080
Cand. Sci. (Biology)
俄罗斯联邦, Moscow参考
- Kavanagh N, Ryan EJ, Widaa A, et al. Staphylococcal osteomyelitis: Disease progression, treatment challenges, and future directions. Clin Microbiol Rev. 2018;31(2):e00084–17. doi: 10.1128/CMR.00084-17
- Jorge LS, Chueire AG, Rossit AR. Osteomyelitis: A current challenge. Braz J Infect Dis. 2010;14(3):310–5. doi: 10.1590/s1413-86702010000300020
- Schmitt SK. Osteomyelitis. Infect Dis Clin North Am. 2017;31(2):325–338. doi: 10.1016/j.idc.2017.01.010
- Sohn H-S, Oh J-K. Review of Bone Graft and bone substitutes with an emphasis on fracture surgeries. Biomater Res. 2019;23:9. doi: 10.1186/s40824-019-0157-y
- Bhuniya S, Demina TS, Akopova TA. Advances in applications of polysaccharides and polysaccharide-based materials. International Journal of Molecular Sciences. 2024;25(12):6482. doi: 10.3390/ijms25126482 EDN: DUTDGS
- Seregina T, Shelomentsev I, Krivoborodov E, et al. Physicochemical and biological properties of vancomycin-containing antibacterial polysaccharide gels for biocomposite bone implant impregnation. Biomacromolecules. 2024;25(7):4156–4167. doi: 10.1021/acs.biomac.4c00268 EDN: FDVABJ
- Luss A, Kushnerev K, Vlaskina E. Gel based on hydroxyethyl starch with immobilized amikacin for coating of bone matrices in experimental osteomyelitis treatment. Biomacromolecules. 2023;24(12):5666–5677. doi: 10.1021/acs.biomac.3c00653.s001 EDN: YXJHBE
- Bharadwaz A, Jayasuriya AC. Recent trends in the application of widely used natural and synthetic polymer nanocomposites in bone tissue regeneration. Materials Science and Engineering: C. 2020;110:110698. doi: 10.1016/j.msec.2020.110698 EDN: XRCKMB
- Nhlapo N, Dzogbewu TC, de Smidt O. Nanofiber polymers for Coating Titanium-based biomedical implants. Fibers. 2022;10(4):36. doi: 10.3390/fib10040036 EDN: TINGRG
- Kotela I, Podporska J, Soltysiak E, et al. Polymer nanocomposites for bone tissue substitutes. Ceramics International. 2009;35(6):2475–2480. doi: 10.1016/j.ceramint.2009.02.016
- Smolentsev DV, Lukina YuS, Bionyshev-Abramov LL, et al. Models for purulent septic inflammation of the tibia in rats to assess the effect of bioresorbable materials with antimicrobial drugs. Genij Ortopedii. 2023;29(2):190–203. doi: 10.18019/1028-4427-2023-29-2-190-203 EDN: PIOJYR
- Smolentsev DV, Lukina YuS, Bionyshev-Abramov LL, et al. Comparative analysis of the effectiveness of bone matrix purification protocols. N.N. Priorov Journal of Traumatology and Orthopedics 2024;31(3):367–380. doi: 10.17816/vto634164 EDN: INAZKR
- Norden C, Keleti E. Experimental osteomyelitis caused by pseudomonas aeruginosa. Journal of Infectious Diseases. 1980;141(1):71–75. doi: 10.1093/infdis/141.1.71
- Smeltzer MS, Thomas JR, Hickmon SG, et al. Characterization of a rabbit model of staphylococcal osteomyelitis. J Orthop Res. 1997;15(3):414–21. doi: 10.1002/jor.1100150314
- Huang S, Huang G. Preparation and drug delivery of Dextran-drug complex. Drug Delivery. 2019;26(1):252–261. doi: 10.1080/10717544.2019.1580322
- Hovgaard L, Brøndsted H. Dextran hydrogels for colon-specific drug delivery. Journal of Controlled Release. 1995;36(1–2):159–166. doi: 10.1016/0168-3659(95)00049-e
- Huang S, Huang G. Design and application of Dextran Carrier. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2020;55:101392. doi: 10.1016/j.jddst.2019.101392
- Zheng T, Yu X, Pilla S. Mechanical and moisture sensitivity of fully bio-based dialdehyde carboxymethyl cellulose cross-linked soy protein isolate films. Carbohydrate Polymers. 2017;157:1333–1340. doi: 10.1016/j.carbpol.2016.11.011
- Zheng T, Yu X, Pilla S. Mechanical and moisture sensitivity of fully bio-based dialdehyde carboxymethyl cellulose cross-linked soy protein isolate films. Carbohydrate Polymers. 2017;157:1333–1340. doi: 10.1016/j.carbpol.2016.11.011
- Rahman MdS, Hasan MS, Nitai AS, et al. Recent developments of carboxymethyl cellulose. Polymers (Basel). 2021;13(8):1345. doi: 10.3390/polym13081345
- Gumnikova VI. Synthesis of Dialdehyde Dextran and Dialdehyde Carboxymethylcellulose and Their Chemical Transformations [dissertation]. Moscow; 2014. 22 p. (In Russ.) EDN: ZPOAYV
- Dyatlov V, Seregina T, Luss A, et al. Immobilization of amikacin on Dextran: Biocomposite materials that release an antibiotic in the presence of bacterial dextranase. Polymer International. 2021;70(6):837–844. doi: 10.1002/pi.6171 EDN: SYKUBG
- Falsafi SR, Topuz F, Rostamabadi H. Dialdehyde carbohydrates — advanced functional materials for biomedical applications. Carbohydrate Polymers. 2023;321:121276. doi: 10.1016/j.carbpol.2023.121276
- Zhai P, Peng X, Li B, Liu Y, Sun H, Li X. The application of hyaluronic acid in bone regeneration. Int J Biol Macromol. 2020;151:1224–1239. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2019.10.169
- Ding W, Wu Y. Sustainable dialdehyde polysaccharides as versatile building blocks for fabricating functional materials: An overview. Carbohydrate Polymers. 2020;248:116801. doi: 10.1016/j.carbpol.2020.116801
- Antibiotic Resistance from Low Concentrations. Elicit [Electronic resource]. Available from: https://elicit.com/notebook/cc1a2ffd-3cd6-4a74-9cab-2f4d1410a060#183105549cc20d73cf5f9dec03a3ffd4 Accessed: March 28, 2025.
- Mechanical Mismatches and Tumor Formation. Elicit [Electronic resource]. Available from: https://elicit.com/notebook/8524ac14-bb93-44c2-913c-c62d88a2b405#183105a4678e0ad205037296024d96f1 Accessed: March 28, 2025.
- Wang D, Chen B. The effects of subcutaneously injected novel biphasic cross-linked hyaluronic acid filler: An in vivo study. Aesthetic Plastic Surgery. 2021;46(S1):174–175. doi: 10.1007/s00266-021-02200-y
- Peng Z, Tang P, Zhou M, et al. Advances in biomaterials for adipose tissue reconstruction in plastic surgery. Nanotechnology Reviews. 2020;9(1):385–395. doi: 10.1515/ntrev-2020-0028 EDN: RQIQVT
- Blinkova AA, Kordykova AP, Vihlyaeva VA, et al. Hydrogel nanoparticles based on cross-linked hyaluronic acid for intracellular drug delivery. Uspekhi v khimii i khimicheskoi tekhnologii. 2023;(6):20–24. EDN: JXEKUU
- Kostandyan ES, Vanyushenkova AA, Dyatlov VA. A novel bone substitute composite based on dialdehydcarboxymethylcellulose with antimicrobial properties. Uspekhi v khimii i khimicheskoi tekhnologii. 2023;(6):87–90. EDN: CYDRUU
- Shelomentsev IV, Seregina TS, Vanyushenkova AA, et al. Dextran hydrogels containing covalently bound vancomycin for use in reconstructive surgery. Uspekhi v khimii i khimicheskoi tekhnologii. 2023;37(6):128–131. EDN: JUABTX
- Kupikowska-Stobba B, Kasprzak M. Fabrication of nanoparticles for bone regeneration: New insight into applications of nanoemulsion technology. Journal of Materials Chemistry B. 2021;9(26):5221–5244. doi: 10.1039/d1tb00559f
- Carreira ACO, Zambuzzi WF, Rossi MC, et al. Bone Morphogenetic Proteins: Promising Molecules for Bone Healing, Bioengineering, and Regenerative Medicine. Vitam Horm. 2015;99:293–322. doi: 10.1016/bs.vh.2015.06.002
- Liu H, Song P, Zhang H, et al. Synthetic biology-based bacterial extracellular vesicles displaying BMP-2 and CXCR4 to ameliorate osteoporosis. Journal of Extracellular Vesicles. 2024;13(4):e12429. doi: 10.1002/jev2.12429
- Crouzier T, Fourel L, Boudou T, et al. Presentation of BMP-2 from a soft biopolymeric film unveils its activity on cell adhesion and migration. Adv Mater. 2011;23(12):H111–8. doi: 10.1002/adma.201004637
- Reed SE, Staley EM, Mayginnes JP, et al. Transfection of mammalian cells using linear polyethylenimine is a simple and effective means of producing recombinant adeno-associated virus vectors. J Virol Methods. 2006;138(1–2):85–98. doi: 10.1016/j.jviromet.2006.07.024
- Kulkarni JA, Myhre JL, Chen S, et al. Design of lipid nanoparticles for in vitro and in vivo delivery of plasmid DNA. Nanomedicine. 2017;13(4):1377–1387. doi: 10.1016/j.nano.2016.12.014
- Luss AL, Kulikov PP, Romme SB, et al. Nanosized carriers based on amphiphilic poly-N-vinyl-2-pyrrolidone for Intranuclear Drug Delivery. Nanomedicine (Lond). 2018;13(7):703–715. doi: 10.2217/nnm-2017-0311
- Luss AL, Andersen CL, Benito IG, et al. Drug delivery platform based on amphiphilic poly-N-vinyl-2-pyrrolidone: The role of size distribution in cellular uptake. Biophysical Journal. 2018;114(3S1):278–279. doi: 10.1016/j.bpj.2017.11.1605 EDN: IHLXXC
- Dyatlov VA, Seregina TS, Derevnin IA, et al. First comb-like copolymer of poly(ethyl 2-cyanoacrylate) grafted as a side-chain to Dextran. Mendeleev Communications. 2024;34(6):881–883. doi: 10.1016/j.mencom.2024.10.035 EDN: IXDSUL
补充文件